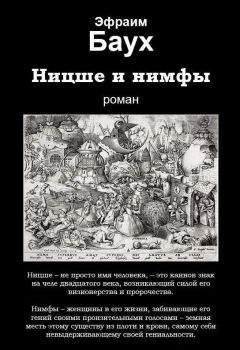– Совершенствую, куда же без этого? Но я вовсе не о поэзии с тобой хочу поговорить.
– Тогда о чем же, Матвей? Разве существует что-либо более достойное поэзии?
– Думаю, что нет, но иногда возникает необходимость говорить о вещах менее достойных.
– Тогда это должна быть очень сильная необходимость.
– Ты угадал. Мы завтра собираемся у Николая Павловича.
– Я в курсе.
– Но знаешь, зачем?
– Зачем?
– Помнишь того клиента, который приходил к нам в последний раз?
– Помню. Мэтр им заинтересовался. Лукин, кажется, его фамилия?
– Да, Лукин.
– Ну и что?
– Дело в том, что этот Лукин умер.
Что-то тревожное выскочило из телефонной трубки и пробежало по лицу Германа.
– И как это произошло?
– А в том то и дело, что почти ничего не произошло. Тело нашли прямо возле его подъезда и единственной особенностью было то, что из ладони его торчала странная булавка.
– Булавка? – Герман ощутил мягкий толчок внутри живота. – А что за булавка?
– Булавка, правда, несколько необычная, то ли антикварная, то ли… ну в общем не поймешь, какая, на скрипку в миниатюре похожа.
Герман почувствовал слабость, и ему показалось, что в трубке зазвучали мелкие колокольчики, но впрочем, это длилось не больше секунды, после чего его спокойствие вновь вернулось к нему.
– Ну а предполагаемая причина смерти какая? – ровным тоном спросил он. – И вообще, откуда тебе это известно?
– В его бумажнике оказалась визитка Николая Павловича, больше никаких документов нет. Соседей тоже не было поблизости. Поэтому сразу позвонили ему. Вот и все. Что касается причины смерти, то врачи ничего сказать не могут. Интересно то, что с одной стороны, еще не наступило трупное окоченение, хотя происшествие случилось вчера, с другой – смерть налицо и ничего тут не попишешь.
– Однако интересно. Вначале он убивает свою возлюбленную, затем погибает сам. Ты не находишь, что предопределенность конца в его судьбе обозначена слишком явно?
– В том то и дело, что не слишком. Его подруга жива.
– Но ведь он же ее задушил.
– Видать, не совсем. Во всяком случае она дышит, передвигается и разговаривает, и завтра принесет кое-какие бумаги покойного.
– Ну что ж, разберемся. В конце концов, умер наш пациент, который пока не перестает быть таковым, даже уйдя из жизни.
– Как тебя понимать?
– Иногда смерть человека может объяснить всю его жизнь. А это важно не только для патологоанатомов.
– Готов согласиться.
– Ладно, Матвей, пока.
– До завтра.
Герман задумчиво положил телефонную трубку и несколько раз прошелся по комнате. После посещения дачи Даниила он по другому стал ощущать мир. Не то, чтобы в его сознании произошел взрыв или какие-нибудь глобальные и революционные преобразования, но восприятие и личностное реагирование стали иными. Появилось некое внутренее, глубинное спокойствие, которое позволяло без излишних эмоциональных всплесков и более тесно приближаться к сути вещей. Если раньше в своей работе он опирался на полученные знания и логику, то сейчас больше полагался на чутье и способность к интуитивному проникновению в скрытый мир человека, его характер, душу, судьбу. Таким образом, его психотерапевтическая деятельность теперь больше использовала целостное видение пациента, нежели рационалистическое расчленение на отдельные акты и реакции, что ничуть не противоречит его ориентированности на психоаналитический процесс. Ведь самый лучший аналитик – это интуитивист. «Анализ же без интуиции – удел ученика», – теперь он полностью осознавал смысл этих слов, сказанных некогда Николаем Павловичем.
Известие о смерти Лукина и сопутствующей ей булавочке уже через несколько минут он воспринял как нечто неизбежное и закономерное, хотя и не смог объяснить себе, в чем тут неизбежность и закономерность. Тем не менее он уже чувствовал этого человека, видел его и понимал, что тот нес в себе знак, который четко предопределял все то, что и должно было случиться. Безусловно, каждый человек имеет этот знак, все дело в том, что его нужно суметь различить, и недавно Герман ощутил в себе эту способность, которая так или иначе или развивается, или усиливается у тех, кто занимается психоанализом. В среде психоаналитиков она именуется психическим ясновидением.
В салоне Николая Павловича собрались его обычные посетители – Матвей, Рита, Герман. И пока ждали Лизу, которая вскоре должна появиться, мэтр готовил свой ни с чем не сравнимый кофе, чей черно-коричневый запах утонченным восточным изыском плавно плыл из кухни в гостиную, делая пространство плотным и ароматным.
Но вот на очередной волне душистого прилива из недр прихожей безымянным поплавком вынырнул робкий звонок.
Лиза вошла, тонкая и бледная, с зияющими провалами зрачков, уводящих в неизведанные заросли извилин, поселившихся внутри этой миниатюрной головки, украшенной колечками закрученных волос.
Она казалась немного испуганной и растерянной, но чашечка кофе, обогащенного коньяком, помогла ей освоиться в обстановке быстрее, чем это обычно в подобных ситуациях бывает. Щечки ее порозовели, а пустота зрачков наполнилась блеском.
«А она хорошенькая, – подумала Рита, вглядываясь в подружку Лукина, – но странен его выбор. Ему все больше нравились дамы оформленные, брунгильдистые, с крепкими ляжками и сочными задами, а эта совсем как девочка: тонкие, хотя и стройные, ножки да, наверно, костлявая попка. Интересно, они играли в декадентские игры?»
Но тут ее мысли были прерваны отеческими интонациями Николая Павловича:
– Мы вам искренно сочувствуем, Лизочка, и готовы помочь вам и сделать все, что в наших силах.
Лизочка молча кивнула и по птичьи наклонилась к чашечке с кофе, отхлебывая мелкий глоточек. Она все еще выглядела затравленным зверьком, хоть и спасшимся от погони и очутившимся в безопасной норке, но пока продолжающим помнить и чувствовать недавний ужас.
– Вы чувствуйте себя свободно и доверьтесь нам, – продолжил Николай Павлович, – ладно?
– Ладно, – кивнула она, пал шиком поправляя выскользнувший из общей пряди коконок.
– Ну вот и хорошо. Вы можете говорить и рассказывать нам все, что захотите, а мы будем думать над тем, как сделать лучше.
– Я принесла его записки… часть из них я читала, и они мне показались немного странными… ну, я не знаю, что еще сказать, ведь все равно он не вернется. А еще… а еще… – Лизочка шмыгнула носиком и уткнула заострившееся личико в свои хрупкие и, должно быть, потные ладошки.
– Что еще, Лизочка, что? Доверьтесь нам. Что еще?
– А еще… – она чуть слышно всхлипнула и не отрывая рук от лица, от чего голос ее слегка загнусавил, чуть растягивая слова, сказала, – а еще… я жду… ребеночка… вот… я – беременная.
«Боже ж ты мой, – подумала Рита, – ну Лукин, ну производитель, – затем мысленно обратившись к девушке, – ничего, бедняжечка моя, я от него тоже залетала. По дурости, конечно».
Часть II
Сцены из жизни циника, или Homo vulgaris
Сегодня разговаривал с одним старичком. У него привычка щелкать челюстями таким вот манером. Сначала вытягивает нижнюю челюсть и выпячивает ее до тех пор, пока не раздастся хруст. При этом впечатление такое, как будто закрой он рот, то эта челюсть наденется ему на нос. Затем он убирал ее обратно в исходное положение и начинал ею колебательные движения то влево, то вправо. Делал он это неистово и даже как-то самозабвенно. Когда хруст прекращается, старик заводит разговор о политике, паразитизме и бутербродах. После каждого моего замечания по какому-либо поводу он возобновляет сеанс хруста и в конце концов изрекает: «Ну и что из этого проистекает?» И в упор смотрит на меня своим желтым слезящимся взглядом.
Однажды я ему прямо сказал:
– Я вам не верю! А он ответил:
– Молодой человек, двадцатый век на исходе, и вы все еще верите людям? Я спросил:
– Скажите, Старичок, а что такое настоящий друг? Он ответил:
– Настоящий друг – это тот, при котором ты можешь свободно пукнуть.
Я видел эти глаза!
И какая-то щемящая грусть пронзила меня. Что-то непонятное было в этих очаровательных глазах. Лицо этой девушки, которая ехала со мной в автобусе, оказалось пухленьким милым личиком. Определенный тип стандартной красоты, вернее, смазливости. Но глаза! О эти глаза, опустошающие и ослепляющие. Огромные… и пустые.
Но пустота их не серая, не бесцветная. Это – черный космический вакуум. Как зимнее солнце. Летнее, раскаленное, плавит воздух. Зимнее, отполированное, разреженное, ослепляет. Солнце пустыни и солнце снежных вершин. Так и эти глаза. Я забыл обо всем на свете. Мне захотелось безумного – мне захотелось влиться в эти бездонные, страшные глаза.
Вначале, как только я почувствовал их взгляд, устремленный на меня, я смутился и быстро отвернулся. Однако вскоре снова стал искать эти глаза – исподтишка и осторожно. «Брось, брось, – говорил я себе, – не робей. Женщины не любят робости, им импонирует дерзость. Отважься, если хочешь завладеть этими глазами, стать их властелином. Смотри, я приказываю тебе, смотри в них не отрываясь». И смущение, и наглость одновременно владели мною в этот момент.