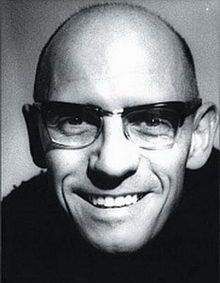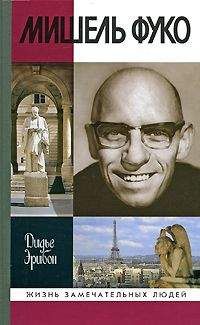задача заключается прежде всего в том, чтобы установить, какова степень ответственности А. с точки зрения уголовного права. И нам бы очень хотелось, чтобы наши термины не были истолкованы превратно. Мы говорим не о том, какова доля моральной ответственности А. в преступлениях девицы Л. — это дело судей и присяжных заседателей. Мы же лишь выясняем, имеют ли аномалии характера А. патологическую, с точки зрения судебной медицины, природу и являются ли они следствием умственного расстройства, достаточного, чтобы не применять к нему уголовную ответственность. Разумеется, наш ответ будет отрицательным. А., конечно, напрасно не ограничивался программными указаниями военных школ, а в любви — воскресными развлечениями, — однако его парадоксы лишены примет безумных идей. И в случае, если бы А. не просто неосмотрительно развивал перед девицей Л. слишком сложные для нее теории, а намеренно подталкивал ее к убийству ребенка, чтобы по какой-то причине избавиться от него, чтобы доказать себе свою способность (к убеждению), или из одного лишь извращенного азарта, подобно Дон Жуану в сцене с нищим [129], — то, разумеется, он должен был бы нести за это полную ответственность. Иначе, чем в этой сослагательной форме, мы не можем представить свои заключения, которые могут вызвать возражения со всех сторон в этом деле и навлечь на нас обвинения в том, что мы превысили свою миссию и поставили себя на место присяжных, то есть вынесли вердикт о собственно виновности или невиновности обвиняемого. В то же время нас могли бы упрекнуть в чрезмерном лаконизме, если бы мы сухо изложили то, чего, строго говоря, было бы достаточно: а именно, что А. не имеет никаких симптомов психического заболевания и, в общем смысле, вполне вменяем».
Так звучит текст, составленный в 1955 г. Прошу прощения за длину этих документов (вскоре вы поймете, что они составляют особого рода проблему); теперь мне хотелось бы привести другие отчеты, гораздо более сжатые, а точнее, один-единственный отчет, сделанный в отношении трех человек, обвинявшихся в шантаже на сексуальной почве. Я зачитаю заключение о двух из них [130].
Один — назовем его X — «не блещет интеллектом, но и не глуп; умеет связно изложить идею и наделен хорошей памятью. В том, что касается морали, он гомосексуал с двенадцати или тринадцати лет, и поначалу этот порок носил характер компенсации насмешек, которые ему пришлось терпеть в детском доме в Ла-Манше [департаменте Ла-Манш. — М. Ф.], где он воспитывался. Не исключено, что женоподобное поведение X усугубило уже имевшуюся в нем склонность к гомосексуализму, однако к вымогательству привело его не что иное, как жажда наживы. X совершенно аморален, циничен и не воздержан в словах. Три тысячи лет назад он наверняка оказался бы одним из жителей Содома и небесный огонь вполне заслуженно наказал бы его за порочность. Но надо признать, что Y [объект шантажа. — М. Ф.] ожидало бы такое же наказание. Будучи зрелым, сравнительно богатым человеком, он не нашел ничего лучшего, как поместить X в притон извращенцев, содержателем которого был он сам, по мере возможности возмещая деньги, вложенные в это дело. Этот Y, попеременно или одновременно выступавший по отношению к X любовником и любовницей — точнее сказать трудно, — вызывает у последнего отвращение, доходящее до тошноты. X любит Z. Надо видеть женоподобное поведение их обоих, чтобы понять обоснованность этих слов, ибо речь идет о до такой степени женственных мужчинах, что их родным городом должен был бы оказаться уже не Содом, а Гоморра».
Я могу продолжить. Вот что касается Z: «Довольно-таки посредственная личность, наделенная духом противоречия, неплохой памятью и способностью связно излагать свои мысли. В духовном плане — аморальный циник. Z погряз в пороке, причем вдобавок он коварен и труслив. С ним приходится в буквальном смысле прибегать к майотике [там так и написано: май-о-ти-ка, то есть нечто, имеющее отношение к майке! — М. Ф.]. Но наиболее яркой чертой его характера является, на наш взгляд, лень, масштабы которой не удалось бы передать никаким прилагательным. Естественно, проще менять пластинки и находить клиентов в ночном притоне, чем по-настоящему работать. При этом он признается, что стал гомосексуалом по причине материального неблагополучия, то есть в поиске денег, и что, почувствовав их вкус, продолжает вести себя в том же духе». Заключение: «Z совершенно омерзителен».
Вы понимаете, что о такого рода дискурсах можно сказать очень мало и в то же время много. Ведь в конце концов в таком обществе, как наше, необычайно мало дискурсов, обладающих одновременно тремя свойствами. Первое их свойство — способность прямо или косвенно влиять на решение суда, которое касается, по сути дела, свободы человека или его заключения под стражу, в предельном случае (и мы еще столкнемся с такими примерами) — жизни или смерти. Итак, это дискурсы, обладающие в конечном счете властью над жизнью и смертью. Второе свойство: благодаря чему они получают эту власть? Может быть, благодаря институту правосудия, но также и благодаря тому, что они функционируют в институте правосудия как дискурсы истины — дискурсы истины, ибо это дискурсы научного ранга, формулируемые дискурсы, причем формулируемые только квалифицированными людьми внутри научного института. Дискурсы, способные убивать, дискурсы истины и дискурсы — вы сами дали этому подтверждение и свидетельство [131], — продуцирующие смех. Причем дискурсы истины, вызывающие смех и в то же время обладающие институциональной властью убийства, — это дискурсы, которым в нашем обществе уделяется в конечном счете мало внимания. К тому же если некоторые из этих экспертиз, и в частности первая, относились — как вы заметили — к сравнительно серьезным и, следовательно, сравнительно редким делам, то второй процесс, прошедший в 1974 (то есть в прошлом) году, — явно из тех, что составляют повседневную рутину уголовных судов и, я бы сказал, всех подсудимых, что нас и интересует. Эти повседневные дискурсы истины, которые убивают и продуцируют смех, заложены в самую сердцевину наших судебных институтов.
Причем не в первый раз функционирование судебной истины не только создает проблему, но и вызывает смех. Вы наверняка знаете, что в конце XVIII века (я рассказывал вам об этом, кажется, два года назад [132] тот способ, каким осуществлялось доказательство истины в уголовной практике, также возбуждал иронию и критику. Вы помните о той одновременно схоластической и арифметической разновидности судебного доказательства, которая в свое время, в уголовном праве XVIII века, именовалась легальным доказательством и в которой выделялась целая иерархия доказательств, уравновешивающих друг друга и со стороны качества, и со стороны количества [133]. Тогда существовали совершенные и несовершенные доказательства, целые и частичные доказательства, полные доказательства и полудоказательства, а также показатели и обстоятельства. И все эти