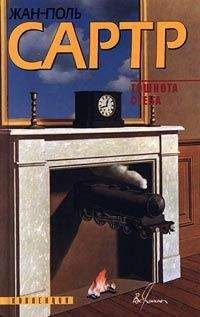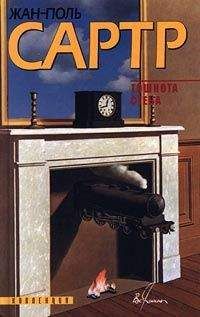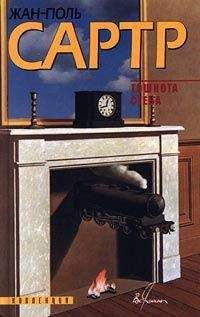если он не выдвигает собственных догадок и не строит схем, прилагаемых, подобно сетке, к рассматриваемой фигуре и раскрывающих ее основные структуры, если его старания не увенчиваются полным озарением, тогда слова оказываются мертвыми знаками, а знания – вызубренными фразами.
Обратив пристальное внимание на самого себя, я равным образом могу убедиться, что понимание – это не автоматический результат процесса обучения, что источник его – единственно моя готовность сосредоточиться, мое напряжение, мое твердое намерение не отвлекаться и не спешить, наконец, весь мой ум в целом, исключая какие бы то ни было внешние воздействия. Именно такова первичная интуиция Декарта: он, как никто другой, понял, что даже в самую простую мыслительную операцию вовлекается вся наша мысль – мысль автономная и в каждом своем акте полагающая себя в своей полной и безусловной независимости.
Но этот опыт автономности не совпадает, как уже было сказано, с опытом продуктивности. Ведь мысль всегда обращена на некоторый предмет: она постигает объективные соотношения сущностей, структуры, взаимосвязь, короче говоря, предустановленный порядок отношений. Таким образом, в противовес свободе мышления, путь, который предстоит проделать нашей мысли, будет строго определенным:
«Существует лишь одна истина касательно каждой вещи, и кто нашел ее, знает о ней все, что можно знать. Так, например, ребенок, учившийся арифметике, сделав правильно сложение, может быть уверен, что нашел касательно искомой суммы все, что может найти человеческий ум; ибо метод, который учит следовать истинному порядку и точно перечислять все обстоятельства того, что отыскивается, обладает всем, что дает достоверность правилам арифметики».
Все задано: и то, что надлежит открыть, и соответствующий метод. Ребенок, употребляющий свою свободу на то, чтобы правильно сделать сложение, не обогащает универсум никакой новой истиной; он лишь воспроизводит действие, которое выполняли до него многие, и не может пойти дальше других. Таким образом, позиция математика представляет странный парадокс: ум его подобен человеку, который, вступив на узкую тропинку, где каждый шаг и даже положение тела идущего строго обусловлены свойствами почвы и потребностями ходьбы, проникнут несокрушимым убеждением, что все совершаемые им действия свободны.
Одним словом, если исходить из математического мышления, как примирить неизменность и необходимый характер сущностей со свободой суждения? Проблема осложняется тем, что во времена Декарта строй математических истин воспринимался всеми благомыслящими людьми как творение божественной воли. И так как строй этот непреложен, то Спиноза, например, предпочтет пожертвовать ради него человеческой субъективностью: он попытается показать, что истина сама развертывается и утверждает себя собственной мощью через посредство тех несовершенных индивидуумов, какими являются конечные модусы.
По отношению к порядку сущностей субъективность, действительно, не может быть ничем иным, как только свободой принимать истину (в таком же смысле, в каком, по мнению некоторых моралистов, у нас нет другого права, как только исполнять свой долг), или же это всего лишь неясная мысль, искаженная истина, развертывание и прояснение которой устранит ее субъективный характер. Во втором случае исчезает и сам человек, стирается всякое различие между мыслью и истиной: истинное как таковое – это вся система мыслей в целом.
Если же мы хотим спасти человека, то, коль скоро он не в состоянии сам порождать идеи, а может только созерцать их, нам ничего не остается, как наделить его одной лишь способностью отрицания – способностью говорить нет всему, что не истинно.
Вот почему Декарт под видом единого учения предлагает две различные теории свободы: одну – когда он рассматривает присущую ему способность понимания и суждения, другую – когда он пытается просто спасти автономию человека по отношению к строгой системе идей.
Его первое побуждение – отстоять ответственность человека перед истиной. Истина есть нечто человеческое, ведь для того, чтобы она существовала, я должен ее утверждать. До моего суждения – как решения моей воли, как моего свободного выбора – существуют лишь нейтральные, ничем не скрепленные идеи, сами по себе не истинные и не ложные. Таким образом, человек – это бытие, через которое в мир является истина: его задача – полностью определиться и сделать свой выбор, для того чтобы природный порядок сущего стал порядком истин. Он должен мыслить мир и желать своей мысли, должен преобразовывать порядок бытия в систему идей. Поэтому начиная с «Размышлений» человек у Декарта предстает как то «онтико-онтологическое» бытие, о котором впоследствии будет говорить Хайдеггер.
* * *
Итак, Декарт с самого начала облекает нас всей полнотой интеллектуальной ответственности. Он постоянно ощущает свободу своей мысли по отношению к рядам сущностей. И свое одиночество тоже. Хайдеггер заметил: никто не может умереть вместо меня. А до него Декарт: никто не может понять вместо меня. В конце концов я должен сказать «да» или «нет» – и один определить истину для всего универсума. Принятие решения в этом случае представляет собой метафизический, абсолютный акт. Речь идет не об условном выборе, не о приблизительном ответе, который потом может быть пересмотрен.
Аналогично тому как в системе Канта человек в качестве нравственного субъекта выступает законодателем града целей, Декарт как ученый определяет законы мироздания. Потому что «да», которое нужно когда-то произнести, чтобы настало царство истины, требует привлечения безграничной способности во всем ее объеме: нельзя сказать «немного да» или «немного нет». А человеческое «да» не отличается от «да», исходящего от Бога.
«Одна только воля, как я ощущаю, у меня такова, что я не обладаю идеей какой-либо иной, более объемлющей воли; она-то в основном и открывает мне, что я создан по образу и подобию Бога. Ибо, хотя эта способность несравненно более высока у Бога, нежели у меня, – как по причине знания и могущества, сопряженных с нею и придающих ей большую силу и действенность, так и благодаря ее объекту… – она все-таки не кажется мне большей, если я рассматриваю ее формально и отвлеченно».
Совершенно очевидно, что эта полная свобода, именно потому, что она не имеет степеней, принадлежит всем в равной мере. Или, точнее, поскольку свобода – это не качество наряду с прочими качествами, очевидно, что всякий человек есть свобода. И знаменитые слова Декарта о здравом смысле как о благе, распределенном справедливее всего, означают не просто, что во всех умах обнаруживаются одни и те же задатки, одни и те же врожденные идеи: «это свидетельствует о том, что способность правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения одинакова у всех людей».
Человек не может быть