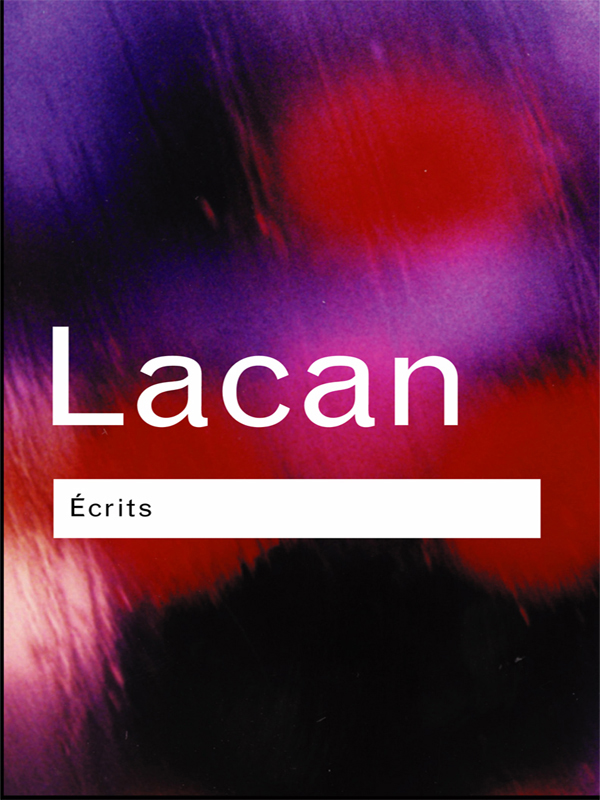среди них так много правдивых", и так далее.
Поскольку эти слова отражают чувства, к которым вернулись многие современные аналитики, снисходящие до разговора с пациентом "на его родном языке", они могут помочь нам понять, что произошло за это время. Ведь если бы Фрейд был способен на подобные чувства, как бы он смог услышать истину, заключенную в маленьких историях его первых пациентов, или расшифровать мрачный бред Шребера до такой степени, чтобы охватить человека, вечно связанного со своими символами?
Неужели наш разум настолько слаб, что не может признать себя на равных в посредничестве научного дискурса и в первичном обмене символическими объектами и не может заново открыть там одинаковую меру своей изначальной хитрости?
Нужно ли указывать на то, чего стоит мерило "мысли" для практиков опыта, который в большей степени связан с кишечным эротизмом, чем с эквивалентом действия?
Нужно ли указывать, что мне не нужно прибегать к "мысли", чтобы понять, что если я говорю с вами в этот момент речи, то лишь постольку, поскольку у нас есть общая техника речи, которая позволяет вам понимать меня, когда я говорю с вами, и которая располагает меня к тому, чтобы обращаться через вас к тем, кто ничего не понимает в этой технике?
Конечно, мы должны быть внимательны к "недосказанному", которое скрывается в дырах дискурса, но это не значит, что мы должны слушать, как будто кто-то стучит по ту сторону стены.
Ведь если отныне мы будем заниматься только этими звуками, как гордятся некоторые аналитики, то придется признать, что мы оказались не в самых благоприятных условиях для расшифровки их смысла. Как можно перевести то, что само по себе не является языком, не напрягая мозги, чтобы понять этот смысл? Призванные таким образом обратиться к субъекту, поскольку именно на его счет мы должны перевести это понимание, мы вовлечем его вместе с собой в пари, пари на то, что мы его поймем, а затем будем ждать, пока возвращение сделает нас обоих победителями. В результате, продолжая выполнять эти перебрасывания туда-сюда, он научится довольно просто сам задавать темп - форма внушения, которая ничем не хуже любой другой - иными словами, форма внушения, в которой, как и в любой другой форме внушения, человек не знает, кто ведет счет. Процедура признается достаточно надежной, когда речь идет о том, чтобы быть на шесть футов ниже.
На полпути к этой крайности возникает вопрос: остается ли психоанализ диалектическим отношением, в котором бездействие аналитика направляет дискурс субъекта к постижению его истины, или же он сводится к призрачному отношению, в котором "две бездны сталкиваются друг с другом", не соприкасаясь, а вся гамма воображаемых регрессий исчерпывается - как своего рода "связывание" , доведенное до крайних пределов как психологический опыт?
На самом деле, эта иллюзия, побуждающая нас искать реальность субъекта за пределами языкового барьера, - та же самая, благодаря которой субъект верит, что его истина уже дана в нас и что мы знаем еезаранее; и более того, благодаря этому он широко открыт для нашего объективирующего вмешательства
Но со своей стороны, несомненно, он не должен отвечать за эту субъективную ошибку, которая, независимо от того, признается она или нет в его дискурсе, имманентна тому факту, что он вошел в анализ и что он уже заключил первоначальный договор, связанный с ним. И тот факт, что в субъективности этого момента мы находим причину того, что можно назвать конституирующими эффектами переноса - в той мере, в какой они отличаются индексом реальности от конституированных эффектов, которые их сменяют, - является тем более веским основанием для того, чтобы не пренебрегать этой субъективностью.
Фрейд, напомним, касаясь чувств, вовлеченных в перенос, настаивал на необходимости выделить в них фактор реальности. Он пришел к выводу, что было бы злоупотреблением покорностью субъекта, если бы мы хотели убедить его в каждом случае, что эти чувства являются простым трансферентным повторением невроза. Следовательно, поскольку эти реальные чувства проявляются как первичные и поскольку очарование наших собственных лиц остается сомнительным фактором, здесь, по-видимому, есть какая-то загадка.
Но эта тайна проясняется, если рассматривать ее в рамках феноменологии субъекта, в той мере, в какой субъект конституирует себя в поисках истины. Достаточно вернуться к традиционным представлениям, которые буддисты, хотя и не только они, могли бы нам предоставить, чтобы распознать в этой форме переноса обычную ошибку существования под тремя заголовками: любовь, ненависть и невежество. Поэтому именно как противодействие движению анализа мы поймем их эквивалентность в том, что называется изначально позитивным переносом - каждый из них освещается двумя другими в этом экзистенциальном аспекте, если не считать третьего, который обычно опускается из-за его близости к субъекту.
Здесь я ссылаюсь на инвективу, с которой меня призвал в свидетели недостатка благоразумия, проявленного в одной работе (которую я уже слишком часто цитировал) в ее бессмысленной объективации игры инстинктов в анализе, человек, чей долг передо мной можно распознать по его использованию термина "реальный" в соответствии с моим. Именно в этих словах он, как говорят люди, "обнажил свое сердце": Давно пора положить конец мошенничеству, которое порождает веру в то, что время лечит. Оставим в стороне то, что с ним случилось, ибо, увы, если анализ не излечил собачий порок рта, о котором говорит Евангелие, его состояние еще хуже, чем прежде: он поглощает чужую рвоту.
Ибо эта попытка не была направлена против воли, поскольку она стремилась провести различие между теми элементарными регистрами, основание которых я позже сформулировал в этих терминах: символическое, воображаемое и реальное - различие, никогда ранее не проводившееся в психоанализе.
Реальность в аналитическом опыте действительно часто остается завуалированной под негативными формами, но определить ее местонахождение не так уж сложно.
Реальность встречается, например, в том, что мы обычно осуждаем как активное вмешательство; но было бы ошибкой определять границы реальности таким образом.
Ибо, с другой стороны, ясно, что воздержание аналитика, его отказ от ответа - это элемент реальности в анализе. Точнее, именно в этой негативности, в той мере, в какой она является чистой негативностью - то есть отделенной от какого-либо конкретного мотива, - лежит стык между символическим и реальным. Это естественно вытекает из того факта, что это бездействие аналитика основано на нашем твердом и заявленном знании принципа, что все реальное рационально, и на вытекающем из этого предписании, что именно субъект должен показать, из чего он сделан.
Дело в том, что это воздержание не может продолжаться бесконечно; когда вопрос субъекта обретает форму истинной речи, мы