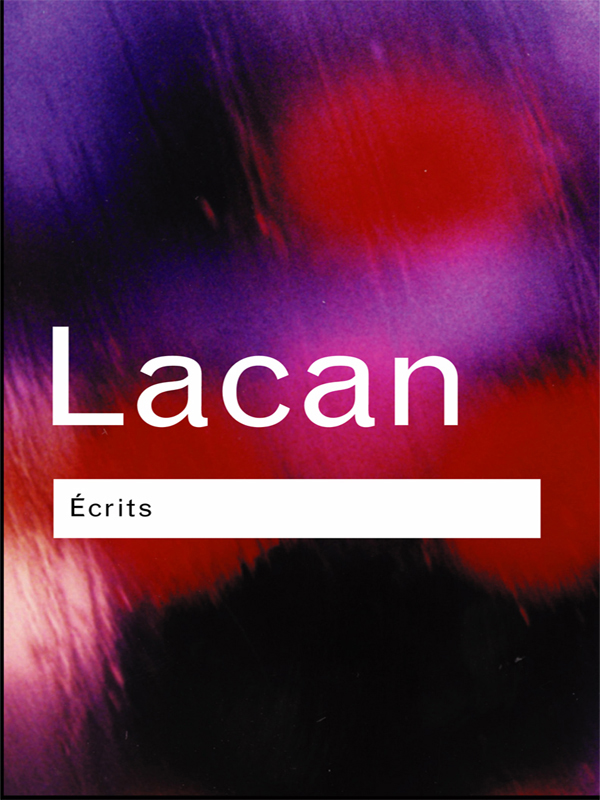я полагаю, что достаточно ясно представил функцию труда в том, что пациент приносит к осознанию в это время.
Но реальность этого времени, какой бы она ни была, следовательно, приобретает локализованную в нем ценность: ценность получения продукта этого труда.
Мы играем роль записи, принимая на себя функцию, основополагающую в любом символическом обмене, по сбору того, что до камо, человек в своей подлинности, называет "непреходящим словом".
Как свидетель, призванный отчитаться за искренность субъекта, хранитель протоколов его бесед, эталон его точности, гарант его честности, хранитель его завещания, подьячий его кодициля, аналитик имеет в себе что-то от писца
Но прежде всего он остается хозяином истины, прогрессом которой является этот дискурс. Как я уже говорил, именно он, прежде всего, расставляет точки в диалектике. И здесь он воспринимается как судья ценности этого дискурса. Это влечет за собой два следствия.
Приостановка сеанса не может не переживаться субъектом как прерывание его хода. Мы хорошо знаем, как он вычисляет его приближение, чтобы сформулировать его на основе своих собственных задержек или даже на основе лазеек, которые он сам себе оставляет, как он предвидит его конец, взвешивая его, как оружие, следя за ним, как за местом, где можно укрыться.
При изучении рукописей символических писаний, будь то Библия или китайские каноники, можно убедиться в том, что отсутствие знаков препинания в них является источником двусмысленности. Поставленные знаки препинания фиксируют смысл; изменение знаков препинания обновляет или расстраивает его, а неправильная пунктуация равносильна изменению в худшую сторону.
Равнодушие, с которым обрезание "времени" прерывает моменты спешки субъекта, может оказаться фатальным для вывода, к которому он стремился, или даже зафиксировать в нем непонимание или неправильное прочтение, а то и послужить поводом для ответной уловки.
Новички, кажется, больше других ощущают на себе влияние этого факта - что заставляет думать, что для остальных это просто вопрос подчинения рутине.
Безусловно, нейтралитет, который мы проявляем, строго соблюдая правило о продолжительности сеанса, поддерживает нас на пути нашего бездействия.
Но это бездействие имеет свои пределы, иначе не было бы вообще никаких вмешательств - и зачем делать вмешательство невозможным в этой точке, которая, следовательно, является привилегированной таким образом?
Опасность того, что этот момент может приобрести для аналитика навязчивое значение, заключается лишь в том, что он поддается попустительству со стороны субъекта, попустительству, которое не только открыто для навязчивого субъекта, но и приобретает для него особую силу, именно благодаря его чувствам по отношению к своему труду. Ключевой момент принудительного труда, который окутывает все для этого субъекта, даже занятия его досуга, слишком хорошо известен.
Это значение поддерживается его субъективным отношением к хозяину, поскольку именно смерти хозяина он ждет.
На самом деле одержимый субъект проявляет одну из установок, которую Гегель не развил в своей диалектике господина и раба. Раб уступил перед риском смерти, когда господство предлагалось ему в борьбе за чистый престиж. Но поскольку он знает, что смертен, он также знает, что господин может умереть. С этого момента он способен смириться с тем, что будет работать на господина, и отказаться от удовольствий на это время; и в неопределенности момента, когда господин умрет, он ждет.
Такова интерсубъективная причина, как для сомнений, так и для промедления, которые являются характерными чертами обсессивного субъекта.
Между тем, весь его труд подпадает под это намерение и становится вдвойне отчуждающим в силу этого факта. Ибо не только ручная работа субъекта отнимается у него другим - что является конституирующим отношением всякого труда, - но и признание субъектом своей собственной сущности в своей работе, в которой этот труд находит свое оправдание, также ускользает от него, ибо он сам "не в ней". Он находится в ожидаемом моменте смерти мастера, с которого он начнет жить, но пока он отождествляет себя с мастером как с мертвым, и в результате сам уже мертв.
Тем не менее он пытается обмануть хозяина, демонстрируя благие намерения, проявляющиеся в его труде. Это то, что послушные дети аналитического катехизиса выражают в своей грубой и готовой манере, говоря, что эго субъекта пытается соблазнить его суперэго.
Эта интрасубъективная формулировка сразу же становится демистифицированной, как только ее понимают в аналитическом отношении, где "проработка" субъекта на самом деле используется для соблазнения аналитика.
Не случайно, что с того момента, как диалектический прогресс начинает приближаться к постановке вопроса о намерениях эго в наших субъектах, не перестает возникать фантазия смерти аналитика - часто ощущаемая в форме страха или даже тревоги.
А затем субъект снова отправляется в еще более демонстративное развитие своей "доброй воли".
Как же можно сомневаться в эффекте пренебрежительного отношения хозяина к продукту такого труда? Сопротивление субъекта может быть даже полностью подавлено из-за этого.
С этого момента его алиби - доселе неосознанное - начинает раскрываться, и его можно увидеть страстно ищущим оправдания стольких усилий.
Я бы не стал так много говорить об этом, если бы не был убежден, что, экспериментируя с так называемыми короткими сеансами, на этапе моего опыта, который уже завершился, я смог выявить у определенного мужчины-субъекта фантом анальной беременности, а также мечту о ее разрешении путем кесарева сечения, отсрочив конец сеанса, когда в противном случае мне пришлось бы продолжать слушать его рассуждения о творчестве Достоевского.
Однако я здесь не для того, чтобы защищать эту процедуру, а для того, чтобы показать, что она имеет точный диалектический смысл в своем техническом применении.
И не я один заметил, что в конечном итоге она становится единой с техникой, известной как дзен, которая применяется в качестве средства раскрытия субъекта в традиционном аскезе некоторых дальневосточных школ.
Не впадая в крайности, до которых доходит эта техника, поскольку они противоречили бы некоторым ограничениям, наложенным нами, сдержанное применение ее основного принципа в анализе кажется мне гораздо более приемлемым, чем некоторые способы анализа, известные как анализ сопротивлений, в той мере, в какой эта техника сама по себе не влечет за собой никакой опасности отчуждения субъекта.
Ведь эта техника только нарушает дискурс, чтобы произнести речь.
Итак, мы здесь, у подножия стены, у подножия языкового барьера. Мы находимся на своем месте, то есть по одну сторону от пациента, и именно на этой стене - как для него, так и для нас - мы попытаемся ответить на эхо его речи.
За этой стеной для нас нет ничего, кроме внешней тьмы. Значит ли это, что мы полностью владеем ситуацией? Конечно, нет, и на этот счет Фрейд завещал нам свой завет о негативной терапевтической реакции.