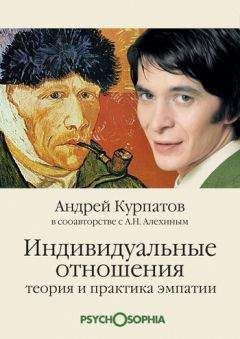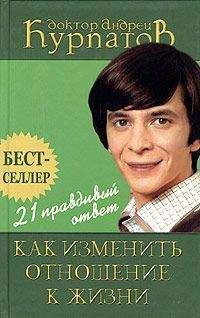Ознакомительная версия.
К счастью, дела творятся реальностью, а не рассудком, человеком, а не доктриной. Может быть, поэтому на Руси таким почетом и уважением пользовались «старцы», которые одно время даже испытывали гонения официальной церкви. А старцы осуществляли и тем самым проповедовали именно христовый подвиг служения человеку. Одним из самых известных и почитаемых на Руси старцев был Серафим Саровский. «Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, – говорил он, – столько не хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего»65. Этому же он и учил после долгих лет столпничества, пустынножительсва и затворничества, когда «жизнь его поменяла новое направление: если прежде он заботился о спасении своей души, а забота о ближних состояла в горячих молитвах за весь мир, то теперь настала пора посвятить себя подвигу душеспасительного назидания паломников»66.
В литературе поразительный образ старца создан в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» – образ старца Зосимы. Вот как характеризует его наш учитель О.Н. Кузнецов в своей работе «Достоевский о тайнах психического здоровья»: «Зосима предстает почти как профессиональный психотерапевт с богатым опытом, все ждут от него “совета и врачебного слова”. Старец – человековед, в совершенстве владеющий методами психотерапевтического воздействия, гибко меняющий их в зависимости от личностных особенностей каждого страждущего»67. То есть, речь идет о прямом сущностном участии, истинной заботе, выраженной в подлинном сострадании. Не имея возможности достучаться до агрессивно настроенного Дмитрия Карамазова, Зосима просто встает перед ним на колени. «Я не ему, я страданию его поклонился», – объяснит потом старец свой поступок. Да, изучение же доктрины, сколь бы ревностным оно ни было, не идет ни в какое сравнение с тем простым актом служения, на который способна личность, открывшаяся для реальности индивидуальных отношений. Доктрина же не способствует тому, чтобы, говоря словами Бергсона, «Бог действовал через душу и в ней»68.
Препятствия на пути к индивидуальным отношениям
Основных препятствий на пути к индивидуальным отношениям, как и механизмов, способствующих их образованию, также два – это содержательность и отсутствие поддержки. Конечно, этим перечень препятствий вовсе не исчерпывается, но на иные, как, например, недостаточность самоактуализирующей тенденции, повлиять уже практически невозможно, да и все они – эти другие препятствия, по большому счету, так или иначе, являются все-таки производными от двух.
Мир, нас окружающий, устроен содержательно. Мы живем в содержании, мы им пользуемся, обмениваемся, он него получаем удовольствие и от него же страдаем. Человек не мыслит себя вне содержания, он не может думать о себе или о мире иначе как содержательно. Крайне редко человек, обращающийся за психотерапевтической помощью, не знает, что именно его беспокоит – плохо и плохо. Но стоит ему только определиться со своей проблемой, как моментально наступает «облегчение», которое, впрочем, не следует переоценивать. Теперь, «зная» свою проблему, он о ней думает, он ее решает, формирует некие объяснения своему состоянию, то есть заворачивает свою тревогу в одёжку доступной для него и понятной ему содержательности. Однако, можем ли мы быть уверены, что это «то» содержание, что мы не ошиблись, определив проблему именно таким образом? Нет, разумеется.
Содержание – это то, что укутывает некую данность в «осязаемые» одежды. Всякий процесс подвергается такой экзекуции, и именно потому все всегда относительно. Если можно «укутать» так, то можно сделать это и иначе, появляется множество вариантов, ни один из которых не отражает реальности, а только представляет ее – так или иначе. И именно в содержательности мы чувствуем себя лучше всего, тут всегда есть на что опереться, за что ухватиться, в какую тихую гавань спрятаться. Если нам удается найти какое-то более-менее удовлетворительное объяснение происходящему, на сердце сразу становится спокойно, и мы, успокоившись, заявляем: «Ну, мне все понятно». Что уж тут до Сократа с его «знаю, что ничего не знаю»…
Почему так происходит? Как это ни парадоксально, всякая содержательность принадлежит миру идей, ведь она, суть, даже не значения, а означение значений, без которых значения не имеют ни лица, ни формы. Мир меняется всякую секунду, но не для нашего сознания, занятого идеями и внешними формами. Сознание – это река, которая всегда одинакова, только вот вода в ней уже другая. Поспеть за постоянно изменяющимся миром невозможно, и сознание подобно профессиональному конферансье, который объявляет каждый раз разных исполнителей одними и теми же словами. Сознание – это способ защиты, это инструмент, позволяющий если не полностью соответствовать происходящему, то хотя бы в общем, так сказать, не сбиваясь с ритма. Но «спасительные» идеальные вещи – палка о двух концах, и эта палка бьет обоими концами, причем самый болезненный из них срабатывает как раз в тот момент, когда мы, упоенные восторгом от ловкости своего жонглирования словами, принимаем их за реальность.
Лабиринты, которые создает содержательность, конечно, не по злому умыслу, а просто по своей природе, оказываются для нас непреодолимой преградой. Всякий, кто полностью отдается на откуп содержательности, оказывается заложником ее чудовищной прихоти. Впрочем, ничто не дает нам возможности сомневаться в том, что мы правы в своих суждениях о содержательности. «В-себе», «для-себя», «сами-по-себе» они целостны и непротиворечивы, полны и самое главное – логичны. Поскольку же мы не имеем в своем рассудке ничего, кроме суждений, то и сомнению относительно истинности наших суждений, нет в нем мест. Мы столь же свято уверены в том, что идеи, принимаемые нами за вещи, реальны и истинны. Как говорит Витгенштейн: «На дне обоснованной веры лежит необоснованная вера»69, последнюю же мы никогда не замечаем, и нам кажется абсурдом, когда тот же Витгенштейн задается вопросом о том, как он может знать, что книга лежит в ящике стола после того, как он сам же ее туда и положил мгновение назад. А вопрос этот вовсе не лишен смысла, и если наше сознание сопротивляется ему, то только потому, что содержательность для нас – высшая инстанция, а она, как и все идеальное, соткана из последовательности событий, то есть из времени, а значит, из способа нашего существования, последний же – проявление нас, но не реальности.
Но вернемся от этих сравнительно общих замечаний к нашей непосредственной теме. Первый пример злой шутки содержательности, которую она сыграла над индивидуальными отношениями и процессом их достижения, следовало бы искать в отечественной философии. Н.Ф. Федотов, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и многие другие русские философы наперебой, совершенно серьезно и обстоятельно рассуждают о «Мировой Душе», «Вселенской Церкви», «Святой Софии», «общем деле», «Хаосе», «житии в Святом Духе», «Абсолюте», «Разуме», «Святом Духе», «Царствии Божьем» и о тому подобных абстракциях, лишенных всякого внутреннего наполнения. И, глядя на это со стороны, трудно удержаться от того, чтобы не принять эти рассуждения за бредовые конструкции, по крайней мере, налицо все признаки данного состояния. Причем, эти размышления лишены всякого желания что-либо разъяснить нам, а все, что претендует на статус «разъяснения» в подобного рода работах, по сути, лишь сложные имена вещей, которых никто и никогда не видел, а потому и не может составить о рассматриваемом предмете своего собственного более менее предметного представления.
Правда, вчитываясь в работы указанных авторов, понимание постепенно приходит. Но что это за понимание? Какова его природа, генез? Дело в том, что путь к идее, заложенной в том или ином из подобных текстов, пролегает через полное игнорирование этих самых пресловутых имен. Они нужны как элементы шарады, тогда как ее решение – есть некий психологический опыт составителя этой самой шарады, имевший место задолго до ее появления. Нас ведут по пути, уже зная ту точку, куда мы должны прийти, но описание самого этого пути, не имеющего, по указанной причине, никакого смысла, постепенно становится самоценным, а голос рассказчика все более и более экзальтированным. Результат такой политики плачевен – масса текста и минимум идей, а в антологиях мировой философии, вышедших из-под редакторского пера зарубежных авторов, не найти даже упоминания русских философов.
Впрочем, следует заметить, что подобного досадного недоразумения, обусловленного самой природой содержательности, не смогла избежать и западная философия. Не отрицая, например, достоинств работ И. Канта, трудно не испытать чувства недоумения, когда мы сталкиваемся с таким размышлением философа: да, мы не можем познать такие вещи, как «душа», «Бог» или «бессмертие», вместе с тем ничто не мешает нам практически поступать так, как будто бы они существуют, и тогда наша вера в них эквивалентна знанию. Но в таком случае невольно встает вопрос – а какова надобность в такой вере? Чтобы поступать соответствующим образом? А зачем поступать соответствующим образом?… Размышления о возможных выгодах и рисках, связанных с подобным выбором, кажутся по меньшей мере странными, поскольку сказать, что нечто как бы и есть, но как бы его и нет, – так же нелепо, как приносить жертвы, понимая, что в них нет никому нужды. Идеализм – всегда идеализм, называет ли он свои идеалы или лишь предполагает их, или если даже если он отрицает их, но следует им. Критерий всегда один: наличие или отсутствие за красочной содержательностью действительной сущности, в последнем случае любые уловки – пустая трата времени и сил.
Ознакомительная версия.