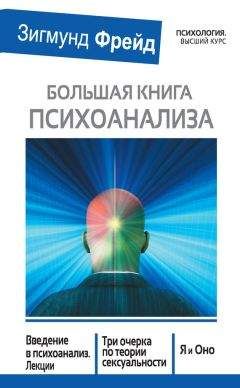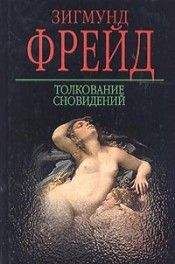«Вчера вечером я проделал психологический трюк. Гердер все еще была в сильнейшей ипохондрии в связи со всеми неприятностями, что приключились с ней в Карлсбаде. Это особенно касается соседки. Я заставил ее все рассказать мне и во всем исповедаться, в чужих злодеяниях и собственных ошибках, с мельчайшими подробностями и последствиями, а в конце концов отпустил ей грехи и под этим соусом шутливо дал ей понять, что со всем этим покончено и брошено глубоко в морскую пучину. Она сама позабавилась над этим и теперь действительно излечена».
Гёте всегда высоко оценивал Эрос, никогда не пытался приуменьшить его мощь, к его примитивным или шаловливым проявлениям относился с неменьшим почтением, чем к возвышенным, и, как мне кажется, свою сущность выражал во всех его формах не менее решительно, чем в доплатоновские времена. Да, возможно, это всего лишь случайное совпадение, когда Гёте в «Избирательном сродстве» применил к любовной жизни идею из круга химических представлений, связь, о которой свидетельствует само название психоанализа.
Я готов к упреку, что мы, психоаналитики, лишились права находиться под покровительством Гёте, потому что оскорбили заслуженное им благоговение, пытаясь его самого подвергнуть психоанализу и низводя великого человека до объекта аналитического исследования. Впрочем, я оспариваю прежде всего то, что это подразумевает или означает низведение.
Все мы, почитающие Гёте, не имели ничего против стараний биографов, желающих восстановить его жизнь по имеющимся сведениям и записям. Но какой нам прок от этих биографий? Даже лучшая и самая полная из них не могла бы дать ответ на два вопроса, которые сами по себе кажутся достойными изучения.
Она не прояснила бы загадку чудесного дара, создающего художника, и не смогла бы помочь нам лучше постичь ценность и воздействие его работ. И все же такая биография, несомненно, удовлетворит нашу сильную потребность. Мы весьма отчетливо ощущаем это, когда скудость исторических преданий лишает данную потребность удовлетворения, например в случае с Шекспиром. Безусловно, нам всем неприятно, что мы все еще не знаем, кто на самом деле написал комедии, трагедии и сонеты Шекспира: необразованный сын страдфордского мещанина, достигший скромного положения лондонского актера, или все же высокородный и прекрасно образованный, страстный, до некоторой степени деклассированный аристократ Эдвард де Вер, семнадцатый граф Оксфордский, потомственный Великий лорд Англии Чемберлен. Но что оправдывает потребность получить сведения об обстоятельствах жизни человека, чьи труды приобрели для нас такое значение? Вообще, говорят, что это желание приблизить к нам такую личность как человека. Пусть будет так; итак, это потребность обрести эмоциональную связь с такими людьми, поставить их в один ряд с отцами, учителями, примерами для подражания, чье влияние мы уже испытали, в надежде, что эти личности будут такими же великолепными и восхитительными, как и их работы, которыми мы располагаем.
И все-таки нам следует признать, что в игре присутствует еще один мотив. Оправдание биографа содержит также признание. Биограф хочет не принизить, а приблизить героя. Но это значит сократить дистанцию, отделяющую нас от него, т. е. действовать все же в направлении принижения. А если мы больше узнаем о жизни великой личности, то неизбежно услышим о случаях, когда эта личность поступила не лучше, чем мы, и по-человечески действительно приблизилась к нам. Я тем не менее считаю, что мы признаем старания биографов правомерными. Наше же отношение к отцам и учителям амбивалентно, ведь наше уважение к ним постоянно прикрывает компоненты вражды и сопротивления. Это психологический рок, не поддающийся изменению без насильственного подавления истины, и он должен распространяться на наше отношение к великим людям, чьи биографии мы намерены исследовать.
Когда психоанализ ставит себя на службу биографии, он, естественно, имеет право на то, чтобы с ним обращались не жестче, чем с самими биографами. Психоанализ может привести некоторые объяснения, которые невозможно получить другими путями, и выявить новые взаимосвязи в переплетениях, нити от которых тянутся к влечениям, переживаниям и работам художника. Поскольку одной из важнейших функций нашего мышления является психическое овладение материалом внешнего мира, я полагаю, надо быть благодарными психоанализу, который, будучи примененным к великому человеку, содействует пониманию его великих достижений. Но я признаю, что в случае Гёте мы еще не многого добились. Это происходит оттого, что, кроме открытого и признанного поэта Гёте, несмотря на изобилие автобиографических записей, существует Гёте, тщательно окутывавший себя тайной. И здесь мы не можем не вспомнить слова Мефистофеля:
Все лучшие слова, какие только знаешь,
Мальчишкам ты не можешь преподнесть.
Детское воспоминание из «Поэзии и правды»
«Вспоминая младенческие годы, мы нередко смешиваем слышанное от других с тем, что было воспринято нами непосредственно».
Это наблюдение Гёте приводит в самом начале своего жизнеописания, работу над которым он начал в шестидесятилетнем возрасте. До этого сообщается лишь о том, что «28 августа 1749 года, в полдень, с двенадцатым ударом колокола он появился на свет. Расположение созвездий благоприятствовало ему, и это доброе предзнаменование, по-видимому, сохранило ему жизнь, поскольку уже при рождении его считали «обреченным» и лишь благодаря чрезвычайным усилиям ему удалось увидеть свет. Вслед за этим наблюдением дается краткое описание дома и комнат, наиболее любимых детьми – самим Гёте и его младшей сестренкой. А затем Гёте приводит тот единственный эпизод, который произошел с ним в самом раннем младенчестве (до четырехлетнего возраста) и сохранился, по-видимому, в его собственной памяти.
Вот как он изобразил этот случай: «Меня очень полюбили жившие насупротив три брата фон Оксенштейн, сыновья покойного шультгейса. Они всячески забавлялись мною и иной раз меня поддразнивали.
Мои родные любили рассказывать о разных проделках, на которые меня подбивали эти вообще-то степенные и замкнутые люди. Упомяну лишь об одной из них. В городе недавно отошел горшечный торг, и у нас не только запаслись этим товаром для кухни, но и накупили разной игрушечной посуды для детей. Однажды, в послеполуденное время, когда в доме стояла тишина, я возился в «садке» со своими мисочками и горшочками, но так как это не сулило мне ничего интересного, я швырнул один из горшочков на улицу и пришел в восторг от того, как весело он разлетелся на куски. Братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставляет удовольствие – я даже захлопал в ладоши от радости, – крикнули: “А ну еще!”. Нимало не медля, я кинул еще один горшок и под непрерывные поощрения: “Еще, а ну еще!” – расколотил о мостовую решительно все мисочки, кастрюлечки и кувшинчики. Соседи продолжали подзадоривать меня, я же был рад стараться. Но мой запас быстро истощился, а они все восклицали: “Еще! Еще!”. Недолго думая я помчался на кухню и притащил глиняных тарелок, которые бились даже еще веселее. Я бегал взад и вперед, хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал все, что стояли на нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил всю посуду, до которой мог дотянуться. Наконец пришел кто-то из старших и пресек мои забавы. Но беда уже стряслась, и взамен разбитых горшков осталась всего лишь веселая история, до конца дней забавлявшая ее коварных зачинщиков».
До разработки метода психоанализа фрагмент этот не дал бы повода к раздумьям, однако позднее уже невозможно было оставить его без внимания. В отношении воспоминаний раннего детства сформировались определенные точки зрения и концепции, охотно использующие обобщенные идеи. Небезразличным стало, какие подробности детских лет запечатлелись в забывающей многое детской памяти. Более того, возможным стало предположить, что удержавшееся в памяти и есть самое значительное в жизни либо уже в период младенчества, либо под влиянием более поздних переживаний.
Впрочем, особая ценность таких воспоминаний лишь в редких случаях была очевидной. Чаще всего это были малозначительные, даже незначительные эпизоды, и сначала было вообще непонятно, что им-то и удалось избежать амнезии. Ни те, кто в течение долгих лет сохранили их в своей памяти, ни те, кому о них было рассказано, не относились к ним с достаточной серьезностью. Осознание их значимости требует известных усилий анализа, призванного либо доказать, как заменить их содержание другим, либо показать связь с другими, в самом деле значительными переживаниями, для которых они служат в качестве так называемых воспоминаний-прикрытий.
Таким способом удается в любом психоаналитическом толковании какого-либо жизнеописания обнаружить значение самых ранних воспоминаний детства. В самом деле, как правило, то воспоминание, которому рассказывающий отводит решающую роль, с которого он начинает исповедь своей жизни, и оказывается самым существенным, таящим в себе ключи к тайникам его душевной жизни. Однако для интерпретации рассказанного в «Поэзии и правде» незначительного происшествия такая закономерность едва ли приложима. Средства и методы, применяемые в случае с нашими пациентами, в данном случае попросту неприемлемы. Само по себе происшествие это, по-видимому, не смогло оказать сколь-либо серьезного воздействия на более поздние жизнеощущения Гёте. Злая шутка, причинившая лишь ущерб в доме и совершенная под чужим влиянием, не может служить подходящей виньеткой того, что смог бы поведать нам Гёте из своей жизни, столь богатой разными событиями. Складывается впечатление полной безотносительности и незначительности этого воспоминания, и мы вправе принять на свой счет упрек в чрезмерной эксплуатации метода психоанализа, а также в универсальном его использовании.