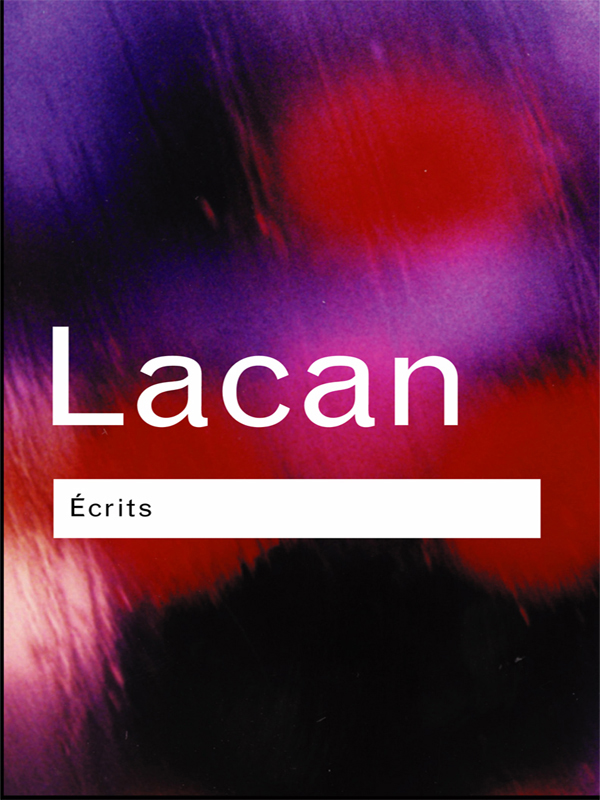которой сталкивается человек, иными словами, истину, открытую Фрейдом, мы фальсифицируем и порядок, и методы психоаналитического посредничества; мы сделаем из него не более чем компромиссную операцию, которой оно, по сути, и стало, а именно то, что буква, равно как и дух работы Фрейда, отвергает больше всего. Поскольку он постоянно ссылался на понятие компромисса как на опору всех бед, которые его анализ должен был устранить, мы можем сказать, что любое обращение к компромиссу, явное или неявное, обязательно дезориентирует психоаналитическое действие и погружает его во тьму.
Но и не достаточно ассоциировать себя с моралистическими тартарары нашего времени или вечно твердить о "тотальной личности", чтобы сказать что-то внятное о возможности медиации.
Радикальная гетерономия, которая, как показало открытие Фрейда, зияет в человеке, больше никогда не может быть прикрыта, если все, что используется для ее сокрытия, не является глубокой нечестностью.
Кто же этот другой, к которому я привязан больше, чем к самому себе, поскольку в основе моего согласия с собственной идентичностью лежит именно он?
Его присутствие можно понять только на второй степени инаковости, которая уже ставит его в положение посредника между мной и двойником меня самого, так сказать, с моим двойником.
Если я сказал, что бессознательное - это дискурс Другого (с большой буквы О), то это для того, чтобы указать на ту запредельность, в которой признание желания связано с желанием признания.
Другими словами, этот другой - тот Другой, на которого даже моя ложь ссылается как на гаранта истины, в которой она живет.
Из этого также следует, что именно с появлением языка возникает измерение истины.
До этого момента мы можем признать в психологическом отношении, которое можно легко выделить при наблюдении за поведением животных, существование субъектов, но не посредством какого-то проективного миража, фантома, который определенный тип психологов с удовольствием разбивает на куски, а просто в силу проявляющегося присутствия интерсубъективности. В животном, притаившемся в своей сторожке, в хорошо расставленной ловушке других, в финте, которым явный бродяга уводит хищника от стада, проявляется нечто большее, чем в завораживающей демонстрации брачного или боевого ритуала. Но даже в этом нет ничего, что выходило бы за рамки функции приманки, служащей удовлетворению потребности, или утверждало бы присутствие в том потустороннем мире, где вся природа может быть подвергнута сомнению в ее замысле.
Для того чтобы существовал вопрос (а мы знаем, что его задал сам Фрейд в книге "За пределами принципа удовольствия"), должен существовать язык.
Ведь я могу заманить противника движением, противоречащим моему реальному плану сражения, и это движение будет иметь обманчивый эффект только в той мере, в какой я произведу его в действительности и для своего противника.
Но в пропозициях, которыми я открываю мирные переговоры с ним, то, что мои переговоры предлагают ему, находится в третьем локусе, который не является ни моей речью, ни моим собеседником.
Этот локус - не что иное, как локус означающей конвенции, подобной той, что раскрывается в комедии печальной жалобы еврея своему дружку: "Зачем ты говоришь мне, что едешь в Краков, чтобы я поверил, что ты едешь во Львов, когда на самом деле ты едешь в Краков?".
Конечно, движение стада, о котором я только что говорил, может быть понято в обычном контексте стратегии игры, где есть правило обманывать противника, но в этом случае мой успех оценивается в коннотации предательства, то есть по отношению к Другому, который является гарантом доброй воли.
Здесь речь идет о проблемах такого порядка, гетерономия которых совершенно неправильно истолковывается, если сводится к "осознанию других", или как бы мы это ни называли. Ведь если когда-то "существование другого" достигло ушей Мидаса психоанализа через перегородку, отделяющую его от тайных собраний феноменологов, то теперь новость шепчут сквозь тростник: "Мидас, царь Мидас, является другим своего пациента. Он сам это сказал".
Что это за прорыв? Другой, какой другой?
Юный Андре Жид, бросая вызов хозяйке квартиры, которой мать доверила его, чтобы та относилась к нему как к ответственному человеку, открывая ключом (фальшивым только в том смысле, что он открывал все замки одной марки) замок, который эта дама считала достойным знаком своих воспитательных намерений, и делая это явно в своих интересах - к какой "другой" он стремился? На ту, которая должна была вмешаться и которой он потом скажет: "Неужели вы думаете, что мое послушание можно обеспечить с помощью нелепого замка?". Но, оставшись вне поля зрения и сохраняя спокойствие до вечера, чтобы, чопорно поприветствовав его возвращение, прочитать ему нотацию, как ребенку, она показала ему не просто другого человека с гримасой гнева, а другого Андре Жида, который ни тогда, ни позже, вспоминая об этом, уже не уверен в том, что он действительно хотел сделать, - его собственная правда была изменена сомнением, брошенным на его добрую волю.
Возможно, нам стоит на мгновение остановиться на этой империи смятения, которая есть не что иное, как та, в которой разыгрывается вся человеческая опера-буффа, чтобы понять, каким образом анализ может не просто восстановить порядок, но и создать условия для возможности его восстановления.
Kern unseres Wesen, ядро нашего бытия, но Фрейд не столько приказывает нам искать его, как многие другие до него с помощью пустой поговорки "Познай самого себя", сколько пересмотреть пути, которые ведут к нему и которые он нам показывает.
Или, скорее, то, чего он предлагает нам достичь, - это не то, что может быть объектом познания, а то (разве он не говорит нам об этом?), что создает наше бытие и о чем он учит нас, что мы свидетельствуем о нем в той же и большей степени в наших прихотях, наших отклонениях, наших фобиях и фетишах, что и в наших более или менее цивилизованных личностях
Безумие, ты больше не объект двусмысленных похвал, которыми мудрец украсил неприступную нору своего страха; и если в конце концов он чувствует себя там вполне уютно, то лишь потому, что верховный агент, вечно роющий туннели, - не кто иной, как разум, тот самый Логос, которому он служит.
Как же вы себе представляете, что ученый с таким малым талантом к "обязательствам", которые требовали от него в его эпоху (как и во все века), такой ученый, как Эразм, занял такое выдающееся место в революции Реформации, в которой человек имеет столько же доли в каждом человеке, сколько и во всех людях?
Ответ заключается в том, что малейшее изменение в отношениях между человеком и означающим, в данном случае в процедурах экзегезы, меняет весь ход