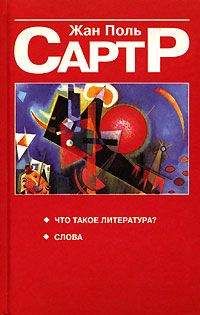Если мы прислушаемся к нашему сознанию в тот момент, когда после резкого перехода от гипнагогической стадии к стадии сновидения нас будит какой-то шум, то увидим, что к суждению «я видел сон» оно приходит в результате схватывания «интересного» характера гипнагогических образов. Чисто гипнагогической стадии такой характер вовсе не свойствен. Под «интересным» не следует понимать «связанное со мной», как, кажется, полагает Леруа. Мое присутствие в сновидении случается часто и бывает почти необходимым, когда речь идет о «глубоком» сне, но можно привести многочисленные примеры сновидений, появляющихся в первые моменты после отхода ко сну, когда «Я» спящего еще не играет никакой роли. Вот одно из них, о котором мне рассказала мадемуазель Б…: сначала появилась гравюра из какой-то книги, изображающая раба у ног своей госпожи, затем этот раб отправился искать гной, чтобы излечиться от проказы, которой он заразился от хозяйки; гной этот должен принадлежать той женщине, которая его любит. На протяжении всего сна у спящей было впечатление, что она читает рассказ о приключениях этого раба. Она ни разу не поучаствовала в событиях. Впрочем, зачастую — к примеру, у меня самого — сновидения предстают сначала в виде истории, которую я читаю или которую мне рассказывают. Позднее же я вдруг начинаю отождествлять себя с одним из персонажей этой истории и она становится моей. Сновидение мадемуазель Б… как и начало моих собственных сновидений, характеризуется нейтрализованным тезисом. Можно ли действительно считать, что тезис модифицируется и становится полаганием существования, потому что внезапно я становлюсь одним из персонажей сновидения? Но оставим на время роль Я в сновидении, и, поскольку некоторые сновидения проходят без участия Я, посмотрим, чем они отличаются от гипнагогических образов. Мы уже знаем, что это отличие не состоит ни в их отношении к личности спящего, ни во внезапном полагании реальности образов. Но достаточно поразмыслить над сновидением мадемуазель Б… и сравнить его с преонейрическими образами, чтобы ясно увидеть разницу: гипнаго-гический образ изолирован, отрезан от других образов; если случайно два-три образа и находятся в отношении взаимозависимости, то в любом случае совокупность их остается изолированной: гипнагогического мира не существует, преонейрические видения не пребывают ни в прошлом, ни в будущем; ни за ними, ни рядом с ними ничего нет. И в то же время каждое из них я полагаю как образ. Этот образный характер сохраняется в сновидении мадемуазель Б…: она читает историю, и это один из способов нейтрализации тезиса. Однако каждый образ выступает как момент некоего развертывания во времени, которое обладает прошлым и будущим. Раб предстает не сам по себе, как в преонейрической образности. В последнем случае он появился бы просто как «раб». Но в сновидении он представляется спящей как больной-раб-отправляющийся-на-поиски-гноя-чтобы-из-лечиться. Его образ отсылает нас к какому-то «до» и какому-то «после», он появляется на фоне весьма богатого пространственного мира: пока он ищет свое лекарство, я не теряю из виду ни того, что у него есть госпожа, от которой он заразился проказой, ни того, что эта госпожа продолжает где-то существовать, и т. д. Впрочем, гипнагогический образ никогда не бывает дан как находящийся где-либо. Мы «видим» звезду в образе в нескольких дюймах от нас, но мы вовсе не знаем, где этот образ располагается как таковой, он не окружен каким-либо воображаемым универсумом. Напротив, персонаж сновидения всегда находится где-то, даже если место, где он двигается, обозначено схематически, как в елизаветинском театре. И это «где-то» само каким-то образом расположено в пределах мира, который не виден, но тем не менее окружает его. Итак, если гипнагогический образ есть некое изолированное, можно сказать, «повисшее в воздухе» явление, то сновидение представляет собой целый мир. По правде говоря, миров существует столько, сколько сновидений, или даже фаз одного сновидения. Точнее, каждый образ сновидения появляется вместе со своим собственным миром. Этого иногда бывает достаточно для того, чтобы отличить отдельный онейрический образ от преонейрического. Если мне является лицо Ага Хана, и я просто думаю, что это лицо Ага Хана в образе, то это — гипнагогическое видение. Если же я ощущаю за этим лицом целый мир угроз и обещаний и тут же просыпаюсь, то это — сновидение. Но тем самым я еще не вполне отдаю себе отчет в «интересном» характере сновидения. Поскольку сновидение внезапно вводит нас в некий временной мир, оно всегда предстает перед нами как некая история. (В случае появления лица Ата Хана эта история была сосредоточена в одном единственном видении и у нее еще не было времени для того, чтобы развернуться). Естественно, пространственно-временной универсум, в котором разворачивается история, остается чисто воображаемым, он не является объектом какого-либо экзистенциального полагания. По правде говоря, он не является даже воображаемым, в том смысле, в каком сознание воображает, когда оно презентифицирует что-либо посредством аналога. В качестве воображаемого мира он выступает коррелятом веры, спящий верит, что эта сцена развертывается в каком-то мире; это означает, что этот мир является объектом пустых интенций, которые устремляются к нему из центрального образа.
Однако все эти замечания ничуть не противоречат главному закону воображения: воображаемого мира не существует. На самом деле, речь идет только о феномене веры. Мы не детализируем этот образный мир, мы не презентифицируем его детали, мы даже не пытаемся это сделать. В этом смысле образы остаются изолированными друг от друга, ограниченными своей сущностной скудостью, подчиненными феномену квази-наблюдения, остаются «в пустоте»', они не поддерживают между собой никаких отношений, кроме тех, которые в каждый момент понятны для конституирующего их сознания. Тем не менее каждый образ предстает окруженным некоей недифференцированной сферой, которая полагается как воображаемый мир. Наверное, лучше было бы сказать, что всякий воображаемый предмет приносит с собой в сновидение некое особое и конститутивное для его природы качество — «атмосферу мира». Выше мы видели, что пространство и время воображаемого даны как внутренние качества воображаемой вещи. Здесь следовало бы сделать аналогичное замечание: для увиденного во сне образа его «связанность с миром» (1а «mondanit6») состоит не в бесконечном числе отношений, которые он будто бы поддерживает с другими образами. Речь идет лишь о некоем имманентном свойстве онейрического образа; «миров» существует столько, сколько и образов, даже если при переходе от одного образа к другому спящему «снится», что он остается в одном и том же мире. Таким образом, следовало бы сказать: в сновидении каждый образ окружает себя атмосферой мира. Но для большего удобства мы будем использовать выражение «мир сновидения», поскольку оно уже устоялось, с той лишь оговоркой, что его не следует понимать буквально.
Теперь нам становится понятна ноэматическая модификация сознания, которой оно подвергается при переходе от преонейрического состояния в состояние сновидения: гипнагогический образ отличался той неожиданной убежденностью, которая внезапно охватывала сознание; я был непосредственно уверен в том, что это энтоптическое пятно есть рыба в образе. Теперь я вижу сон, и эта внезапная вера отягощается и обогащается одновременно: вдруг я оказываюсь убежден, что эта рыба имеет свою историю, что она была поймана в такой-то реке, что она будет подана к столу архиепископа и т. д. Река, рыба, архиепископ в равной мере суть продукты воображения, но они конституируют некий мир. Мое сознание, следовательно, есть сознание мира; все свое знание, все свои заботы, все свои воспоминания, вплоть до той необходимости бытия-в-мире, которая навязана человеческому существу, я спроецировал в образ, конституируемый мною в настоящий момент, но я сделал это с помощью своего воображения. Что же при этом произошло, кроме того, что сознание было взято в полном своем объеме, целиком вступило в игру и само себя заставило породить все богатство синтезов, но только по способу воображения. Это возможно только в сновидении: даже шизофреник, состояние которого весьма близко к состоянию сновидца, сохраняет способность застигнуть себя «на пути к игре». Но здесь нет уже ни внимания, ни связанной с ним способности полагать объект трансцендентным, сознание оказывается зачаровано обилием впечатлений, оно схватывает их в качестве того или иного образного объекта, в качестве подходящего для той или иной цели, и вот оно уже целиком вступает в игру, оно схватывает эти переливающиеся всеми цветами радуги впечатления как подходящие для объекта, который находится в экстремальной точке мира, очертания которого теряются в тумане. Пока длится сновидение, сознание не может подвергнуть рефлексии самое себя, оно увлечено своим собственным падением и продолжает схватывать образы до бесконечности. Истинное объяснение онейрического символизма заключается в следующем: если сознание всегда схватывает свои собственные заботы, свои собственные желания только в символической форме, то вовсе не благодаря вытеснению (refoulement), — как полагал Фрейд, — которое обязывало бы его как-то их прикрывать: это происходит потому, что оно неспособно схватить что бы то ни было реальное в реальной форме. Оно полностью утратило функцию реального и все то, что оно чувствует, все то, что оно мыслит, оно не может ни чувствовать, ни мыслить иначе, нежели в образной форме. По этой же самой причине, как показал Хальбвакс, мы ничего не можем припомнить в сновидении. И дело здесь не в социальных ограничениях. Просто малейшее воспоминание о реальном сразу же повлекло бы за собой кристаллизацию перед сознанием всей реальности, ибо в конечном итоге это реальное каким-то образом располагалось бы относительно той реальной спальни, той реальной кровати, в которой я сплю. Образ кристаллизации может послужить нам в двух отношениях: один-единственный преонейрический образ может привести к кристаллизации ноэм сознания в ноэмах воображаемых миров, и одна-единственная реальность, схваченная или воспринятая как таковая, способна повлечь за собой кристаллизацию перед сознанием реального мира — произойти может как одно, так и другое.