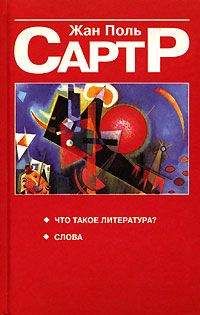Теперь нам становится понятна ноэматическая модификация сознания, которой оно подвергается при переходе от преонейрического состояния в состояние сновидения: гипнагогический образ отличался той неожиданной убежденностью, которая внезапно охватывала сознание; я был непосредственно уверен в том, что это энтоптическое пятно есть рыба в образе. Теперь я вижу сон, и эта внезапная вера отягощается и обогащается одновременно: вдруг я оказываюсь убежден, что эта рыба имеет свою историю, что она была поймана в такой-то реке, что она будет подана к столу архиепископа и т. д. Река, рыба, архиепископ в равной мере суть продукты воображения, но они конституируют некий мир. Мое сознание, следовательно, есть сознание мира; все свое знание, все свои заботы, все свои воспоминания, вплоть до той необходимости бытия-в-мире, которая навязана человеческому существу, я спроецировал в образ, конституируемый мною в настоящий момент, но я сделал это с помощью своего воображения. Что же при этом произошло, кроме того, что сознание было взято в полном своем объеме, целиком вступило в игру и само себя заставило породить все богатство синтезов, но только по способу воображения. Это возможно только в сновидении: даже шизофреник, состояние которого весьма близко к состоянию сновидца, сохраняет способность застигнуть себя «на пути к игре». Но здесь нет уже ни внимания, ни связанной с ним способности полагать объект трансцендентным, сознание оказывается зачаровано обилием впечатлений, оно схватывает их в качестве того или иного образного объекта, в качестве подходящего для той или иной цели, и вот оно уже целиком вступает в игру, оно схватывает эти переливающиеся всеми цветами радуги впечатления как подходящие для объекта, который находится в экстремальной точке мира, очертания которого теряются в тумане. Пока длится сновидение, сознание не может подвергнуть рефлексии самое себя, оно увлечено своим собственным падением и продолжает схватывать образы до бесконечности. Истинное объяснение онейрического символизма заключается в следующем: если сознание всегда схватывает свои собственные заботы, свои собственные желания только в символической форме, то вовсе не благодаря вытеснению (refoulement), — как полагал Фрейд, — которое обязывало бы его как-то их прикрывать: это происходит потому, что оно неспособно схватить что бы то ни было реальное в реальной форме. Оно полностью утратило функцию реального и все то, что оно чувствует, все то, что оно мыслит, оно не может ни чувствовать, ни мыслить иначе, нежели в образной форме. По этой же самой причине, как показал Хальбвакс, мы ничего не можем припомнить в сновидении. И дело здесь не в социальных ограничениях. Просто малейшее воспоминание о реальном сразу же повлекло бы за собой кристаллизацию перед сознанием всей реальности, ибо в конечном итоге это реальное каким-то образом располагалось бы относительно той реальной спальни, той реальной кровати, в которой я сплю. Образ кристаллизации может послужить нам в двух отношениях: один-единственный преонейрический образ может привести к кристаллизации ноэм сознания в ноэмах воображаемых миров, и одна-единственная реальность, схваченная или воспринятая как таковая, способна повлечь за собой кристаллизацию перед сознанием реального мира — произойти может как одно, так и другое.
Именно здесь стоит охарактеризовать степень веры сознания в эти воображаемые миры, или, если угодно, «массивность» (la «lourdeur») этих миров. Вернемся к сновидению м-ль Б. Уже в силу одного лишь факта, что сновидение предстает тут как некая история, нам должно стать понятно, какого рода вера ему приписывается. Но еще лучше об этом говорит сама Б…: по ее собственным словам, она читает эту историю. Этим она хочет лишь сказать, что история представляется ей интересной и правдоподобной в том самом смысле, в каком так говорят о прочитанной истории. Чтение в некотором роде зачаровывает нас, и, читая детективный роман, я верю прочитанному. Но это вовсе не значит, что я уже не считаю описываемые в детективе приключения лишь воображаемыми. Просто за теми черточками, которые я вижу в книге, для меня вырисовывается целый образный мир (я уже показал, что слова могут служить аналогом[111]), и этот мир замыкается в моем сознании, я уже не могу от него освободиться, я зачарован им. Этот род зачарованности, которая не сопровождается экзистенциальным полаганием, я и называю верой. Сознание осознает не только свою скованность, но еще и свою беспомощность перед самим собой. Этот мир самодостаточен, он не может быть ни рассеян, ни исправлен восприятием, так как не относится к области реального. Именно сама его ирреальность ставит его вне досягаемости и придает ему некую компактную непрозрачность и силу. Пока сознание пребывает в этой установке, оно не может ни предложить себе, ни даже воспринять какой-либо мотив для ее изменения, переход к восприятию может осуществиться лишь посредством некоей революции. Такова же, только с еще большей очевидностью, мощь того мира, который предстает во сне: ноэматически фиксируемая в объекте эта мощь является коррелятом не-те-тического сознания зачарованности. Вот почему мир сновидения, как и мир чтения, выступает как совершенно магический мир; мы увлечены приключениями персонажей сновидения как похождениями героев романа. Это вовсе не означает, что нететическое сознание воображения уже не схватывает себя как спонтанность, но оно схватывает себя как спонтанность околдованную. Именно это обстоятельство придает сновидению свойственный ему оттенок фатальности. События предстают как то, что не может не произойти, коррелируя с сознанием, которое не может сдержать себя и перестать воображать их. Образ сновидения, однако, по-прежнему обладает только теми характеристиками, которые ему придает сознание: феномен квази-наблюдения столь же действенен здесь, как и в любом другом месте. Но образ обладает в то же время и навязчивым характером, который обусловлен тем, что сознание благодаря собственной зачарованности само заставляет себя формировать его; он характеризуется «замут-ненностью», вытекающей из его логической природы и фатальностью, происхождение которой следует объяснить подробнее.
В воображаемом мире нам не могут присниться никакие возможности, поскольку они предполагают наличие реального мира, отталкиваясь от которого их можно помыслить как возможности. Сознание не может начать попятное движение по отношению к продуктам своего собственного воображения, чтобы вообразить возможное продолжение истории, которую оно себе представляет: это привело бы к пробуждению. Именно этим мы занимаемся, к примеру, выдумывая при пробуждении утешительный конец того кошмара, который нам только что привиделся. Одним словом, сознание не может ничего предвидеть, ибо в данном случае это значило бы воображать на основе вторичной способности и, следовательно, уже обладать рефлексивным познанием воображения первой ступени. Всякое предвидение, исходящее из некоего данного момента истории, в силу своей явленности становится эпизодом этой истории. Я не могу задержаться, не могу представить себе, что конец мог бы оказаться иным; я обязан рассказать себе историю без всякой передышки и без чьей-либо помощи: ничто здесь не «проходит даром». Так, каждый момент истории предстает мне как имеющий некое воображаемое будущее, но это будущее, которое я не могу предвидеть, которое в свое время само собой явится сознанию и о которое это сознание разобьется. Таким образом, вопреки тому, что можно было бы предположить, воображаемый мир — это мир, лишенный свободы: он не то что бы детерминирован, он представляет собой изнанку свободы, он — фатален. Поэтому спящий утешается и выпутывается из всевозможных затруднений вовсе не благодаря измышлению иных возможных вариантов. Это происходит благодаря непосредственному порождению неких утешительных событий в рамках самой истории. Он не говорит себе: у меня мог бы быть револьвер, а револьвер сам внезапно оказывается у него в руках. Но горе ему, если именно в этот момент ему в голову прийдет мысль, которая в состоянии бодрствования выразилась бы в форме: «а что если револьвер заклинит!». В сновидении не может быть никаких «если»: просто этот спасительный револьвер вдруг заклинивает в тот самый момент, когда им хотят воспользоваться.
Но мир сновидения не замыкается, пока сновидец сам не начинает играть в нем свою роль. Поэтому в сновидениях предстают, по большей части, похождения самого спящего. «Мне снилось, будто я… и т. д.» — этой фразой мы начинаем обычно рассказы о своих снах. Как нужно понимать появление самого спящего в этом воображаемом мире? Надо ли думать, что это в самом деле он сам, собственной персоной, как реальное сознание, проникает в среду онейрической образности? По правде говоря, такое предположение кажется мне лишенным смысла. Ведь для того, чтобы сам спящий, как реальное сознание, проник в воображаемую драму, разыгрывающуюся в сновидении, нужно, чтобы он сознавал самого себя реальным существом, то есть человеком, существующим в реальном мире, в реальном времени, отмеченном вехами реальных воспоминаний. Но как раз этими условиями и определяется состояние бодрствования. Введите в сновидение какого-нибудь реального человека, и оно треснет по швам, будет восстановлена реальность. Впрочем, что, собственно, мы хотим этим сказать? Безусловно, мое сознание во время бодрствования характеризуется своим «бытием-в-мире», но как раз потому, что это «бытие-в-мире» характеризует отношение сознания с реальностью, оно, по-видимому, не может быть применено к сознанию, которое видит сон. Сознание не может «быть-в» воображаемом мире, если только оно само не является воображаемым. Но что такое воображаемое сознание, как не определенный объект реального сознания. В самом деле, сознание, которое видит сон, всегда есть нететическое сознание самого себд, поскольку оно зачаровано сновидением, но оно утратило свое бытие-в-мире и вернет его себе лишь при пробуждении.