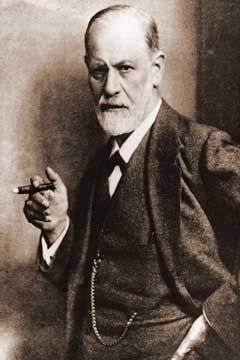В результате он шел на компромисс: признавал смерть применительно к себе, но оспаривал представление о смерти как об уничтожении. В случае же смерти врага у него отсутствовал подобный мотив. У тела любимого человека он рассуждал о духах, а его сознание вины или примешанное к скорби удовлетворение становилось причиной того, что эти впервые придуманные духи стали злыми демонами, которых следовало страшиться. Перемены, вызванные смертью, навязывали ему разделение индивида на тело и одну душу, которых поначалу было несколько. Таким образом, мысль его двигалась параллельно с процессом разложения, начатым смертью. Продолжительные воспоминания о покойниках стали причиной предположения о других формах существования, предложили человеку идею продолжения жизни после кажущейся смерти.
Первоначально эти последующие существования были только привеской к существованию, закончившемуся смертью, призрачному, бессмысленному и вплоть до более позднего времени воспринимаемому с пренебрежением. Оно все еще выглядело по своему характеру каким-то жалким. Мы помним, как душа Ахиллеса грустно отвечает Одиссею:
…Живого тебя мы как бога бессмертного чтили:Здесь же, над мертвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизниНекогда был, не ропщи же на смерть, Ахиллес благонравный.Так говорил я, и так он ответствовал, тяжко вздыхая:«О Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся,Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный.Нежели здесь над бездомными мертвыми царствовать мертвым.(«Одиссея», XI, 484–491, перев. В. А. Жуковского)
Или в выразительной, горько-пародийной версии Г. Гейне:
Был прав достойный сын Пелея,Роптавший горько в «Одиссее»:«Живой филистер, самый мизерныйНа Неккаре в Штуккерте счастливей, наверное,Чем я, Пелид, безымянный герой,Я призрак, парящий над мертвой толпой.(«Отходящий», перев. А. Мушниковой)
Лишь позднее религиям удалось представить это загробное существование достойным и полноценным, а жизнь, завершающуюся смертью, низвести до простого предуготовления к нему. В подобном случае было вполне логично продолжить жизнь и в прошлое, придумать предыдущие существования, переселение и повторное рождение душ, и все это с одной целью – перестать считать смерть уничтожением жизни. Так давным-давно было положено начало отрицания смерти, которое мы признали конвенционально-культурным.
У тела ушедшего в мир иной любимого человека родились не только представление о душе, вера в бессмертие, но и первые этические заповеди, и там же мы найдем мощные истоки человеческого сознания вины. Первый и самый важный запрет пробуждающейся совести гласил: не убий! Он был выдвинут в качестве реакции на скрывающуюся за скорбью удовлетворенную ненависть к любимому покойнику и мало-помалу распространился на нелюбимых посторонних лиц, а в конце концов даже на врагов.
В последнем случае запрет уже не воспринимается культурным человеком. Когда варварской бойне этой войны придет конец, каждый из победивших воинов с радостью вернется в свой дом, к своим жене и детям, полностью освободившись от любых мыслей о врагах, которых он убил в рукопашном бою или с помощью оружия, действующего дистанционно. Показательно, что отсталые народы, еще живущие на земле и, конечно, ближе стоящие к древнейшим людям, чем мы, ведут себя в этом отношении иначе – или вели, пока не испытали на себе влияние нашей культуры. Австралийский дикарь-абориген, бушмен, огнеземелец – это отнюдь не лишенные раскаяния убийцы. Победителем возвращаясь домой с тропы войны, он не вправе войти в свою деревню и не смеет коснуться жены, пока не искупит свои убийства на войне длительным и довольно утомительным покаянием. Разумеется, объясняется это его суевериями. Дикарь все еще боится мести духов погибших. Но ведь духи убиенных врагов – это не что иное, как проявление его нечистой совести, вызванной его кровавым преступлением. За этими суевериями скрывается частичка его нравственной деликатности, напрочь утраченной нами, цивилизованными людьми [117].
Души набожных людей, которые хотели бы подальше удалить нас от соприкосновения со злом и какой-либо подлостью, не упустили, разумеется, возможность извлечь из преждевременности и настоятельности запрета убивать устраивающий их вывод о силе зарождающегося этического чувства, вроде бы изначально нам присущих. К сожалению, этот аргумент еще больше доказывает противоположное: весьма мощный запрет может быть направлен только против столь же мощного порыва. То, чего не жаждет душа ни одного человека, нет нужды запрещать [118]; оно исключается само по себе. Именно акцент на запрет «Не убий» убеждает нас, что мы происходим от длинной череды поколений убийц, у которых, как, видимо, и у нас самих, в крови заложено стремление убивать. Этические интенции человечества, на силу и важность которых не нужно смотреть придирчиво, – это приобретение человеческой истории. Позднее, к сожалению, в очень переменчивом размере они стали частью наследия живущего сегодня человечества.
Теперь давайте оставим древнейшего человека и обратимся к бессознательному в собственной психике. Здесь мы целиком опираемся на исследовательский метод в виде психоанализа, единственный достигающий нужных глубин психики. Зададим себе вопрос: как наше бессознание относится к проблеме смерти? Ответ будет таков: почти так же, как и древнейший человек. В этом отношении, как и во многих других, человек древнейших времен продолжает жить в нашем бессознательном. Иначе говоря, наше бессознание не верит в собственную смерть, ведет себя так, будто оно бессмертно. То, что мы называем нашим бессознательным, – это глубочайшие, состоящие из побуждений слои нашей психики, вообще не знающие ничего негативного, никакого отрицания (противоположности в нем совпадают), поэтому оно и не признает собственную смерть, которой мы способны придать только негативное содержание. Стало быть, вере в существование смерти не противостоит в нас ничего связанного с влечениями. Возможно, именно в этом заключается тайна героизма. Его рациональное обоснование строится на убеждении, что собственная жизнь не может быть столь же ценной, как определенные абстрактные и всеобщие блага. Однако я считаю, что чаще может иметь место инстинктивное и импульсивное геройство, не принимающее во внимание подобную мотивацию и просто пренебрегающее опасностью в соответствии с заверением камнереза Ганса у Анценгрубера: Ничего с тобой не случится. Либо такая мотивация служит только для устранения сомнений, способных задержать соответствующую бессознанию героическую реакцию. Напротив, страх смерти, одолевающий нас чаще, чем мы сами знаем, является чем-то вторичным, и по большей части формировался он из сознания вины.
С другой стороны, мы признаем смерть в отношении чужаков и врагов, считаем ее для них желательной и не вызывающей наших сомнений, как и у древнейшего человека. Правда, в данном случае обнаруживается различие, которое фактически будет признано решающим. Наше бессознательное не совершает убийства, оно просто думает о нем и желает его. Однако было бы неправильно уж совсем недооценивать эту психическую реальность по сравнению с фактической. Она весьма важна и чревата последствиями. В наших бессознательных побуждениях мы ежедневно и ежечасно устраняем все, что стоит на нашем пути, что нас обидело или нанесло