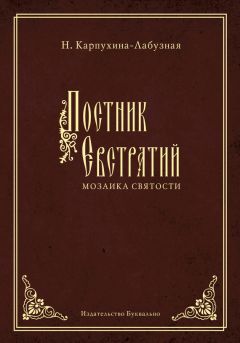Так ведь и есть: грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами». (Использовано из «Повести временных лет» Нестора Летописца).
И помните, братия, что говорил нам наш игумен Феодосий?
Учил нас поститься, молиться. Бесы нам вкладывают мысли дурные и помыслы, разжигают желания, тем самым портят молитвы. Отгоняйте их крестным знамением и говорите: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, и аминь». Противьтесь, братья мои, бесовского наущенья, имейте в устах ваших псалмы Давидовы и ими прогоняйте унынье бесовское.
А более всего имейте любовь ко всем меньшим и старшим, давать примером себя воздержания, бдения и смиренного хождения.
Бог учит нас любить даже врагов, они ведь тоже человеки и люди. Послал нам Господь испытание, так вытерпим, братия. Нужно терпеть, нужно страдать».
В сумерках вечера племянник кошевого Атрак, юноша шустрый, сметливый и донельзя жизнью довольный, подсел к одному из монахов. Тот поднял темной зелени очи на стража. Молчали. На плохом арамейском стражник спросил, почему-то смущаясь: «хочешь, я её приведу? И в степь отпущу. Ненадолго. Вижу же я, как смотришь на ханшу». Монах улыбнулся: «ханшу?» И понял: юнец говорил про неё, боярыню, что подруги Еленою звали. Сердце рвануло из впалой груди, глаза вспыхнули облаком света, но губы сказали твердое «нет». Очень тихое, очень, но твердое, как скала или слово мужчины.
А за этим «нет» обвалом крушение надежды на близость. Как душу рвать на две части, если душа-то одна! Рвешь, брызгов крови не ощущая, так велика эта боль. Два человека, два тела – мужчина и женщина, а словно одною душой их Бог наделил. Можно молчать, можно идти, знаешь, ты вместе, оба – в одном.
Телесная близость дать так не может, как единство души. Телесная радость на порядок или даже и больше ниже духовной, тихой, светлой и чистой радости бытия. Как редко людям даруется радость такая, так редко, что сумасшедшими или больными смотрятся со стороны наделенные радостью этой.
Как много грязи вокруг. Ошметками чистых задеть, как скудное сердце радо-то будет, ошметками сплетен, слухов, просто помоев и, авось, чистый измажется, как измазан и я. А, когда все вокруг грязи грязнее, я, может, самый чистый из них? Тогда вовсе не стыдно, и срам не берет за поступки дурные да мысли нечистые. Каждый считает, что только он чист. Все рядом в грехах, а я слегка, может, и грешен. Но милостив Бог! А совесть? Утишить её можно, если грязью плеснешь в стоящего рядом. И только праведникам да святым достается тягчайший удел чистому быть. Горький и сладкий удел эта драгоценная ноша светлой души.
Потому и звучит тихое «нет» соблазну недальнего счастья. Не может радуга счастья земного, пусть даже и со второй половинкой твоей исстрадавшей души, не может существовать. Просто не может, потому как превыше всех радостей жизни земной – ожидание мира небесного.
Отрекается монах не только от имени, что давали в миру, не только от отца или матери, отрекается от всего, что было в миру, ради единой любови к Богу Единому.
Выше этой любви нет ничего. Трудно понять простому мирянину, как можно отречься от имени, от тех, кто тебя породил? А если вдуматься: кто нас рождал? Кто же решил быть тебе или нет? Жить тебе или нет? И когда умереть? И когда заболеть? И когда здоровому быть? Неужели мать или отец?
Нет, конечно же, нет! Мать, она выносит и родит, отец выкормит, вырастит, если силенки останутся. А кто душу вдохнет в тело людское? То-то же, то-то же, то-то же!
Три таинства, что люди постигнуть не могут, ибо им знать не дано, три таинства, три вещи, что даются нам Богом, Им и отнимаются. Это рождение человека, смерть его. И, конечно, любовь.
Может человек предугадать, предсказать, кто и когда родится, и у кого? Нет, не может. Придумали люди разности разные, хотят заменить собой волю Божью, тут тебе и клонирование, тут тебе и зачатие через пробирки. А для смерти придумали эвтаназию или казнь через суд. Вдумаешься в философию, а воля Божья – вот она, в каждом зачатии или рождении, в смерти и миловании от нее.
И тайна особая, это – любовь. Не высший сорт любовь человеческая к человеку. Приходит, бывало, в нищую хижину, минуя дворцы. И счастлив, поёт человек, с которым и в шалаше истинный рай. Или посетит роскошь дворца, даруя правителю дар драгоценный к рабыне (пример Роксоланы и Сулеймана Великолепного), или иноплеменнице. И крушит правитель традиции да обычай ради любви, готовый на плаху ради избранницы. А со стороны посмотри на неё, так, ничего, есть множество лучших. А он, то есть правитель, лелеет, холит свою драгоценную половинку, пылинки сдувает. Или казнит, если грехом грешна (Генрих УШ и Анна Болейн, например). Сочиняет ей песнопения, гимны любовные (Соломон и Суламифь). В ад спустится за любимой. (Орфей и Эвридика). Такова сила любви, любви плотской.
На порядок выше её любовь матери к детям. Ну, тут примеры приводить и не надобно: оглянитесь вокруг, всмотритесь в себя, всё видно воочию.
Но есть высший сорт любви человека, это любовь его к Богу. Ах, как далеко не каждому она воздана! Подарена Высшим. Много людей на планете, аж миллиарды, а к Богу любовь даруется единицам. А почему? То таинство Бога, в которое монашество стремится войти, постичь и достигнуть блаженства.
Пути? Молитва! Соблюдение заповедей и любовь к человеку.
Помолиться за грешную душу можно и самому, можно священнику, чей долг обязует за нас, грешных, молиться в тиши алтаря. Попросит священник прощения за грехи и свои, и чужие, попросит за душу заблудшую, душу загнившую.
Однако, священник в миру. У него хлопот полон рот, он в ответе за храм, за собственных детушек, за жену и родителей, за ежедневное их пропитание. За паству ответчик, вконец!
И только в тихом монашестве, вдалеке от суеты мира мирского, может монах предаться молитве вседенно, всенощно: скорбеть за людей, просить за них, за себя и за всех грешных. Отмаливать и просить, а грехов в мире столько, что молиться нужно непрестанно и непременно, и не одному, пусть даже самому праведному изо всех праведных. Не одному человеку, а тысячам тысяч нужно нести свет чистоты в людской мир, обуенный страстями, грехами, и молиться, молиться, молиться за них.
Да не каждому то дано уходить от мира, приносить молитвенную чистоту Богу. Только кого Господь призовет, тому суждено уходить, отрекаясь от радостей бытия. Но человеку трудно решать принимать обет иночества или остаться в миру, принося людям радость.
Призывает Господь, и схиму монах принимает, держит обет. Трудно праведным на земле, ох, как бывает им трудно!
…Нелегкая жизнь пришла и к Елене. Разговор тот не слышала, далеко. Видеть то видела, как подсаживался к пленному страж, ухнуло сердцем: не дай Бог, убьют! Встрепенулась, ожглась. Села, голову наклонив. И набатом по сердцу тихое «нет». Как громыхнул каждый звук короткого «нет», как веткой крапивы по очам и по сердцу. Ясно ведь было и ранее, какова судьба у монаха. У пленных надежда мягким комочком теплится в глубинках исстрадавшихся сердец: а вдруг выкупят или отпу стят? Или дружина доброго князюшки отобьет?
А у схимника вечный пост да воздержание, служба Богу Единому греха не потерпит. Помыслы грешные, и те отмоли. А все едино: надежда маревом манит, туманом стелится по ранам души. Душа одна, а людей двое: она и монах. Все б отдала за зе леные очи! От срыва спасала только лишь вера, что гранита крепче да слова людского. Нет, осуждения бабского бояться не стоило, любовь всех пересудов крепче и слаще. Но гвоздем застряло, что в голове, что на сердце бедном – нельзя! Нельзя навредить, нет, не себе, раз мой грех, мой и ответ за содеянное. Нельзя навредить монашеской чести, монашеской чистоте, схиме навечной. Знала, кара господня настигнет любимого. Любое себе наказание пережила бы, а вот кара любимому? Лучше погибнуть, чем дать пострадать невинному иноку.
Тихое «нет», и стопы побрели за бабёнками, что собирали сухое травье для разжива костра. Тихое «нет», и сгорели в костре, как сухая трава, без остатка, надежды на счастье с любимым, с отрадой души и сердца надеждой.
Ночью туман поднимался над степью, клубы вились над спящей землею, как будто матушка мать-сыра-земля ровно дышала, дав себе отдых. За каплями рос поднимался и разнотравья настой, коням раздолье. Теплело: шли явно к югу. Теплая степь уже не холодила ночами уставшие члены, босые ноги легкий холод тумана остужал натругу и боль. Стан умолкал, отдыхая перед трудной дорогой. Стража дремала, привычно косясь на полон: ложились отдельно. Унаки стайкой держались круг монастырской братии, женщины чуть поодаль, греясь у загасавших угольков костерка.
Вечер удался на славу: стража поймала косулю в силки, даже свиста стрелы не понадобилось половцам. Стрелы они берегли: путь-то далекий, где стрелу изготовишь в походе?. Наевшись досыта сами, бросали обглодки полону. Те обсосали до зеркального блеска обглодки, были б собаки, досталось б и им. Но шелудивые псы отстали в дороге, доставаясь в добычу волкам.