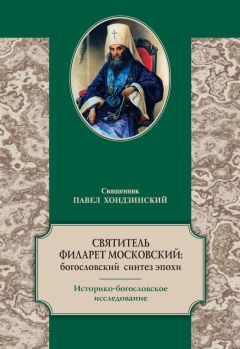10
Так детям хочется быть непохожими на отцов.
«Очевидно, что создавшаяся по западным принципам богословская наука наша, хотя бы и чуждая западных заблуждений, так далека от действительной духовной жизни православных христиан, так несродна ей, что не только не может руководить последней, но даже и приблизиться к ней» (Антоний (Храповицкий), митр. Цит. соч. С. 417).
См., например, выступление еп. Михаила Женевского на круглом столе «Догмат искупления в русской богословской науке» в ПСТГУ: «Владимир Лосский в своем труде… очень ясно выразил доступным для западного человека образом, может быть, не все, но самые важные черты православного богословия. Это имело большое значение. Но я думаю, что внутрицерковное углубление богословских понятий скорее должно произойти как раз в православных странах» (Вестник ПСТГУ. 2009. 1:1 (25). С. 142–143).
Достаточно показательна в этом отношении, например, история догмата Искупления, который был осознан как вопрос полемики с Западом только в русском богословии и только в конце XIX века. Уже цитированный прот. Петр Гнедич в конце своей монографии приходит к выводу о преодолении в русском богословии «юридической» теории Искупления, противопоставляя ей «органическую» теорию парижской школы. Между тем недостатки «органической» теории, в рамках которой, например, остается необъяснимым вопрос о необходимости именно крестной смерти Спасителя, обусловлены все тем же (восходящим к митр. Антонию) желанием избежать пересечений с западной мыслью. В свою очередь труд о. Петра, написанный более полувека назад, стал фактом нашего богословия всего два года назад. По сей день серьезный критический разбор его никем не написан. И т. д., и т. д.
Михаил (Грибановский), еп. Речь перед защитой магистерской диссертации // Христианское чтение. 1888. Ч. 1. Май-июнь. С. 731.
«Один светский ученый в устной беседе с нами, – пишет Бухарев, – справедливо высказался, что Филарет приготовил чертежи и рамки, в которые должно войти все современное знание, все действительное богатство современной веками и тысячелетиями развитой цивилизации, для нового своего развития» (Бухарев А. М. О митрополите Филарете как двигателе развития православно-русской мысли // ПО. 1884. Т. 1. № 4. С. 743).
Здесь надо оговориться, что синтез, в понимании автора книги, не есть нечто сотворенное из компендиума святоотеческих мнений представителями школы. Синтез возникает там, где традиция обогащается за счет органического вплавления в нее нового, пусть даже изначально чуждого материала, вплавления, дающего в результате обогащение традиции. Но поскольку такая работа подразумевает не только знания, но и духовный опыт, постольку и подлинный синтез всегда есть синтез отцов, а не из отцов.
Речь идет о воссоздании именно богословского контекста – близкий к нему философский затрагивается мною лишь по мере необходимости.
Выбор обусловлен следующими соображениями: 1) общепризнанная значимость автора; 2) упоминание о нем самим свт. Филаретом; 3) «следы» источника, обнаруженные в текстах святителя.
Сказанное относится и к изданным на латыни в XVIII веке лекциям преосвященного Феофана Прокоповича.
Даже такая солидная работа, как «Феофан Прокопович и его время» И. Чистовича, с указанной точки зрения почти ничего не дает.
Суровцев А. Г. Иван Владимирович Лопухин. Его масонская и государственная деятельность. СПб., 1901. С. 41–42.
ДубровинН. Ф. Наши мистики-сектанты. А. Ф. Лабзин и его журнал «Сионский вестник» // РС. 1894. № 9. С. 157.
Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916. С. 166.
К «филаретовскому» разделу «Путей русского богословия» близко примыкает отдельный очерк о. Георгия о святителе, по некоему совпадению опубликованный в парижском журнале «Путь».
Чтобы не быть голословным, такой, например, пассаж: «М. М. Сперанский… создал собственное еретическое учение. В нем подвергались пересмотру божественная и человеческая ипостаси (!) Иисуса Христа…» (Кондаков Ю. Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб., 2005. С. 28). Или: «Немецкие мистики XIV в., Мейстер, Экгард (sic!), Таулер, Сузо – восставали против формализма в религии…» (Там же. С. 317).
Ход жизни историческая наука восстанавливает по документам либо официального, либо частного происхождения. В этом смысле принято сегодня говорить об «истории декретов» или «социальной истории». Но ниже речь пойдет о документах, донесших до нас идеи, одушевлявшие и государственную, и личную жизнь, и именно в этом смысле здесь говорится о связи богословия с жизнью, т. е. о том, как преломились в богословии исторически обусловленные духовные проблемы времени. При этом автор исходит из аксиомы, что религиозное начало (а значит, и мотивация) в человеке древнее, следовательно глубже, чем социальнополитическое.
Автор далек от мысли дать на нескольких страницах исчерпывающую характеристику этого сложнейшего периода русской истории.
Важно, что и само это время воспринимало себя как начало: «Идеологии петровской эпохи было свойственно представлять переживаемое Россией в начале XVIII века время как некий исходный пункт, точку отсчета. Все предшествующее объявлялось как бы несуществующим или по крайней мере не имеющим исторического бытия, временем невежества и хаоса…» (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 236).
Описание самих церковных реформ не входит в задачу автора, который исходит из того, что, будучи начаты Петром, они завершились в царствование Екатерины II.
«Эпанагога, по-видимому, не была переведена на русский язык до XVII в., но с определениями ее, касающимися царской и политической власти, русские книжники могли ознакомиться из Синтагмы Властаря, следы употребления которой встречаются уже в рукописях XV в., в начале же XVI в. она была переведена целиком; при Алексее же Михайловиче была переведена и Эпанагога. Таким образом, в распоряжении русских мыслителей находились те памятники византийского законодательства, в которых царская власть определяется как ограниченная законом, в которых ставятся над нею обязательные для нее нормы, а рядом с нею – другая власть, имеющая самостоятельные полномочия» (Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. М., 2006. С. 53).
Мысль о необходимо лежащем в основе симфонии «двоевластии» подсказана автору покойным И. С. Чичуровым.
Это особенно остро чувствовал сщм. Арсений Мацеевич, претерпевший гонения именно за идею симфонии.
На уровне бытовом это ярко подтверждается известным эпизодом из жизни святителя Тихона, которому воронежские мужики отказали в лошадях, посчитав его пастырем «только над попами» и обнаружив тем самым свое представление о Церкви как сословном ведомстве» (Свт. Тихон. Т. 5. Приложение. С. 24).
«…Есть царского сана долженство, еже есть сохраняти, защищати во всяком беспечалии содержати, наставляти же и исправляти подданных своих» (Феофан (Прокопович), архиеп. Правда воли монаршией. М., 1722. С. 27).
Спустя полвека (срок вполне достаточный для проникновения идей в жизнь) тот же святитель Тихон скажет, что «в христианство нынешнее языческое состояние вошло» (Свт. Тихон. Т. 2. С. 354).
Уже одно слово «Сенат» говорит о многом. «Из двух путей – столицы как сосредоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, – Петр избрал второй. В этом контексте наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме» (Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Цит. соч. С. 239).
По определению, митр. Антония (Храповицкого), весьма интересовавшегося этой темой, быт есть «капитал нравственных привычек и общепринятых правил жизни, которые получили в русском народе более устойчивую мощь, чем принудительные государственные законы, действуя двумя сильнейшими мотивами человеческого общежития: мотивом убежденного подражания и стыда, которыми и строилась и держалась жизнь народа от времен Ярослава и до 20-го века…» (Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды. Письма. Материалы. С. 346). Будучи выражением личного христианского благочестия, быт складывается в силу общественную, в «коллективную волю православного народа» (Там же. С. 347), в свою очередь творчески воздействующую на каждую отдельную личность. Но «богословский» интерес к быту можно проследить на всем протяжении русской традиции, начиная хотя бы с «Вопрошаний Кирика» и аналогичных памятников того времени. Прп. Иосиф Волоцкий пришел к мысли о необходимости уставной регламентации жизни как проекции божественной красоты в мир (см. ниже).