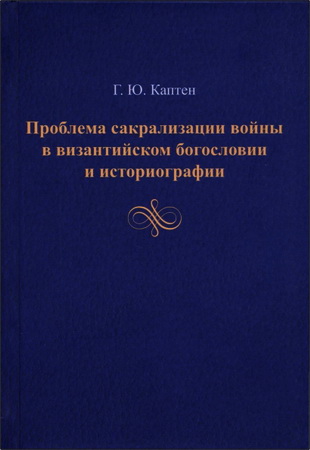class="p1">Воодушевляя воинов, он говорит сначала вполне традиционные еще для античности вещи о силе своих солдат и слабости неприятеля, затем переходит к столь важным для эпохи Юстиниана принципам всеобщей справедливости, связывая их с вполне христианским стремлением к миру: «Вновь и вновь добиваясь мира, ромеи приобрели себе в союзники и справедливость, мидийцы же оружие справедливости направили против себя, пренебрегая мирной жизнью и как истинного бога почитают любовь к войне».
Далее же он переходит к новым мотивам религиозного противостояния: «Не на лжи основана вера наша, не подложных богов избрали мы своими вождями… Мы не поклоняемся богу, обращающемуся во прах, сегодня сгорающему и не появляющемуся вновь. Дым и дрова не создают богоучения, самое исчезновение их материи изобличает ложность подобного учения».
Затем оратор вновь обращается к идее справедливости, говоря, на этот раз, о непрочности всего противного ей: «Процветает варвар, веселясь и радуясь; но счастье, поднявшись на алтари, где ему нанесены обиды, не может долго на них оставаться. Несправедливость часто получает силу, но, в конце концов, приходит к своей гибели».
Самый конец же речи окрашивается яркими мотивами уже не просто справедливой, а священной войны: «Идите в бой, не забывая о достоинстве вашего звания, чтобы не опорочить вместе с делами и своего имени… Ныне ангелы записывают вас в свои списки… Пускай любители удовольствий не потрясают копьем; пусть никто, любящий роскошь, не принимает участие в таинствах боя» [176].
Приведенный пример, на наш взгляд, очень точно показывает смешение концепций «всеобщей справедливости» и «войны за веру» в последние десятилетия VI века. Для персонажей хроники они практически отождествляются, и борьба за правую веру становится актом справедливости, карающей нечестивцев, неверных и несправедливых одновременно.
В другой ситуации один из героев Симокатты, искусно сочетая события своего времени с библейскими образами «войны за Бога», заявил: «Следует и военными инструментами воспевать Господу славу: ведь в боевых рядах он прославляется архистратигом, в войнах считается силой и крепостью… Сила в руке его, умаляет он горы надменности, свергает с тронов властителей и вновь открыто являет во благо Вавилонии величие своей милости. Львы укрощаются, драконы удушаются. Бел и Митра рабами становятся и огонь потухает… В середине церкви я вижу Христа освящающего, на плечах несущего знаки победные. Триумфом является крест, которым варвары, как чужие, изгоняются» [177].
В повествовании этого историографа присутствуют и иные характерные черты сакрализации военных действий. Так, персы перед боем советуются с предсказателями: «Тогда сатрап обратился к служителям волшебства, требуя от магов по [различным] признакам предугадать будущее, и хотел знать прорицания женщин, одержимых пифийским наитием… Одержимые демонами предсказывали, что за мидянами останется победа, что после битвы персы уведут с собою в свою землю ромеев и что счастье переменится» [178].
В ответ на это византийский полководец «велел вынести образ Богочеловека, о котором издавна до настоящего времени идет молва, будто создан этот образ божественным промыслом, а не выткан руками ткача и не нарисован красками художника. Поэтому у ромеев он прославляется как нерукотворный и почитается как богоравный дар Господень: подлиннику его ромеи поклоняются с трепетом, как таинственной святыне. Сняв с него все священные покрывала, стратег быстро нес его по рядам воинов и тем внушил всему войску еще большую и неотразимую смелость. Затем он остановился в центре, неудержимыми потоками изливая слезы (он знал, что реки крови прольются при этом столкновении), и обратился к войску со словами поощрения. И сила проникновенных слов его была такова, что у смелых она увеличила решительность, а у вялых и медлительных возбудила готовность к бою» [179].
Тем не менее ни у Феофилакта, ни у других авторов его времени нет призывов к экспансии «во Имя Христово» за пределы более-менее четко определенных «римских земель». Кроме того, возможно, правители второй половины VI века были пока еще далеки от восприятия своих войн как борьбы за христианство. Примером этого служит политика Маврикия, перемежавшего войны с персами и аварами на периоды союза с ними, что особо заметно в его содействии воцарению Хосроя II. Император, будучи довольно религиозным человеком, видел в этих событиях прежде всего государственный интерес и пользу (или ее отсутствие для ромейской державы). Равно как и во внутренней политике он проявлял достаточно большую терпимость к монофизитам.
Сказанное же выше может оказаться и спецификой восприятия событий самим Симокаттой, человеком уже следующей эпохи, родившегося около 580 года и творившего в первой половине VII века. Поэтому следует с известной осторожностью говорить о появлении осознанной идеологии «войны за веру» в конце VI века. Представляется правильным датировать это парой десятилетий позже, 20-ми годами VII века, царствованием Ираклия, уже явственно включившего элементы религиозного противостояния в свою внешнюю и внутреннюю политику. Однако предпосылки к этому появились, несомненно, чуть раньше, в 590—600 годах.
Подтверждением этому тезису может служить разительное различие важнейших полемологических сочинений VI века: анонимного трактата эпохи Юстиниана и знаменитого «Стратегикона», составление или окончательная редакция которого произошла примерно пятьюдесятью годами позже — в правление Маврикия или сразу после него.
Первое сочинение практически не содержит каких-либо четких указаний на религиозную позицию автора. Его христианское мировоззрение вполне вероятно, но прямых и исчерпывающих доказательств этого в самом тексте практически нет. Он, без сомнения, разделяет общее для эпохи предпочтение войны миру и требование справедливой причины для ведения боевых действий, о чем уже упоминалось выше.
В контексте нашей гипотезы и превалировании в указанной эпохе в достаточной степени внеконфессиональной концепции «справедливости превыше всего», этот момент становится вполне закономерным. Поэтому рассмотрение этого автора в одном ряду с римскими военными теоретиками Оносандром и Вегецием, как это делает В.В. Кучма [180], представляется вполне обоснованным.
Совершенно иным представляется «Стратегикон», автор которого, несомненно, является христианином, использующим характерные лексические обороты, упоминающим Святых, Богородицу и пр. Одной из главных добродетелей полководца является, наряду с разумом, образованностью (в смысле прилежного изучения специфической литературы), личным мужеством и т.п., благочестие, посредством которого можно заслужить благоволение и поддержку Всесильного Бога.
Примечательно, что именно в этом трактате впервые упоминаются регулярные совместные молитвы стратега и войска, причем по контексту можно воспринять их как уже сложившуюся общепринятую практику, не вызывающую каких-либо вопросов и не требующую дополнительных пояснений:
«Каждая банда или тагма, будет ли она стоять в лагере или где-либо вместе с другими, или одна сама по себе, должна каждый день рано утром перед занятиями, а также каждый вечер после ужина петь по установленному обычаю молитвы и Троесвятие» [181].
«Вблизи Стратега должны находиться сигналист и