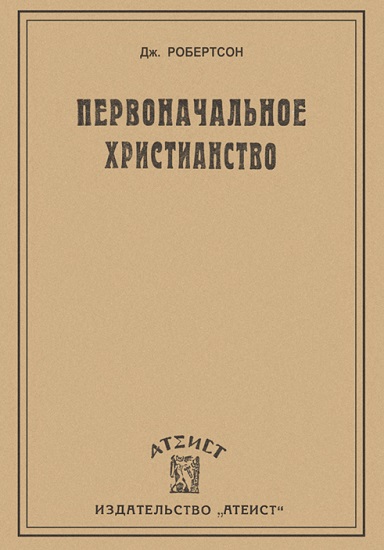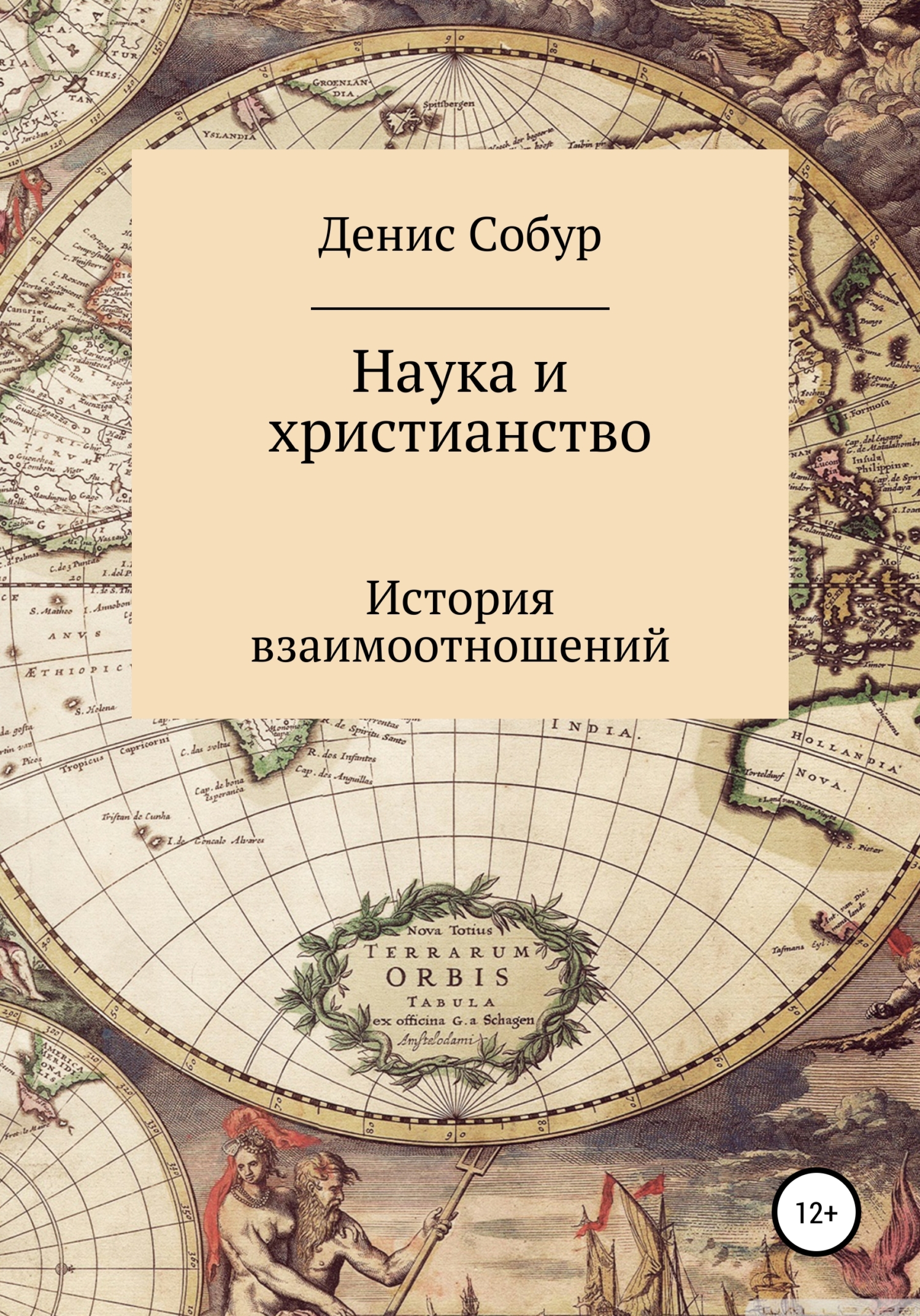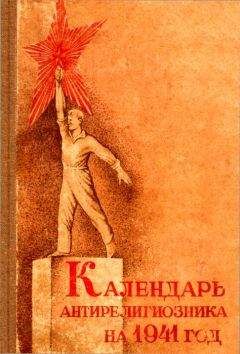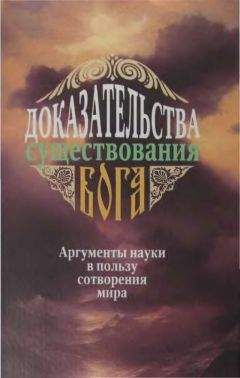христианский культ не мог бы делать быстрых успехов, если бы он предлагал каким-либо классам населения более возвышенную мораль, чем та, которую они привыкли признавать. Утверждать превосходство христианской морали — значит опровергнуть сопутствующее этому утверждению положение, что языческий мир, в который вступило христианство, был глубоко развращен. Если мужчины и женщины со всех сторон приветствовали новое учение за его нравственную простоту, то это доказывает, что они приобрели вкус к такой красоте, и их, следовательно, нельзя считать «погрязшими в преступлениях и грехах».
Правда, среди необразованных слоев народа — в современной ли Индии, в дохристианской Мексике, или в классической древности — репутация аскета всегда вызывала большую популярность и уважение: люди относятся с почтением к самоотречению, на которое они сами не способны; но культ и религиозная община, стремящаяся действительно захватить народные массы, не может требовать от них «святости», являющейся уделом лишь немногих.
В действительности христианская мораль по каждому пункту имела свою параллель в морали иудаизма или той или иной из языческих школ и культов. Контраст, который обычно находят между церковью и ее моральной средой, создается потому, что сравнивают христианскую теорию с языческой народной практикой. Если сравнить теорию с теорией и практику с практикой, такой разницы не окажется.
Если сначала обратиться к этической литературе того времени, то мы найдем, что нравственное учение, скажем, Сенеки имело столько точек соприкосновения с учением Павла, что оно дало повод к созданию теории об обмене мнений между языческим моралистом и апостолом. Теперь все согласны в том, что такого обмена мнений не было и что мнимая переписка между Павлом и Сенекой христианские подделки. Но общность их учений неоспорима.
У обоих можно проследить элементы восточной морали, занесенной в греческий стоицизм писателями семитической расы. У Сенеки заключающиеся в его философском учении моральные принципы получили гораздо большее развитие, чем в любом евангелии или послании; Сенека во многих отношениях дает конкретные и практические указания там, где евангелия высказываются неопределенно и отвлеченно.
Так, например, он осуждает всякую войну и требует ласковых товарищеских отношений между господами и рабами; по последнему вопросу еврейский платоник, Филон Александрийский, пошел еще дальше, прямо осудив рабство, как наихудшее из зол, и отвергнув утверждение Аристотеля, что для некоторых людей рабство — их естественное состояние.
Такие нравственные правила, как взаимная любовь и прощение обид, были, конечно, общим достоянием моралистов всех цивилизованных стран дохристианской эры — проповедников Китая и Индии, так же, как и Греции; в частности, долг осуществляемой на практике благотворительности, который в обращенном к язычникам третьем евангелии превращен в центральный пункт нравственной и религиозной жизни, проповедуется в почти буквально тех же выражениях в гораздо более древних египетских книгах-
Если христианская этика отличалась от высшего язычества, то главным образом в пункте о жертвенной замене, или «спасении через кровь», и в пункте о смирении. Стоицизм культивировал, наоборот, самоуважение, следуя в данном случае принципу, который мы находим в раввинистской литературе; здесь, во всяком случае, остается еще под вопросом, выражало ли практически такое г добровольное смирение», отвергнутое в позднейших посланиях, более действенный нравственный принцип.
У такого писателя, как Ювенал, мы находим протест против обычая молить бога вообще «о всякого рода благах» на том основании, что господь, дескать, знает лучше, чем его почитатели, что им действительно нужно. В евангелии перед молитвой господней дается такое же указание, но откуда бы ни произошел в обоих случаях (в евангелии и у Ювенала) этот принцип, во всяком случае, язычник, который молится о здоровом теле в здоровом духе, нисколько не хуже христиста, молящегося о хлебе насущном, если принять обычный перевод греческого слова «epiousios» [12]; если же, что весьма вероятно, речь идет здесь о молитве о «хлебе духовном», то мы получаем опять-таки противоречие между римским культивированием самоуверенности и христианским культивированием чувства духовной зависимости.
Однако, в сущности, поскольку надежда на божью помощь теоретически должна внушить человеку уверенность в себе, практический результат в обоих случаях был, вероятно, один и тот же, и в хорошем и в дурном смысле. Когда богословие Павла к учению о спасении при помощи веры присоединило новый принцип, что бог — горшечник, а человек — глина, без собственных моральных устоев, то этим самым была введена нравственная концепция, имевшая только деморализующее значение; к ней параллели в высших языческих учениях не было.
Что касается христианского учения об искупительной жертве, то в этом отношении и в иудаизме и в язычестве многие мыслители достигли более высокого нравственного уровня; христизм в этом случае, как мы видели, скорее, приспособился к народной религиозной морали, имевшей за собой глубокую древность. Точно так же многие еврейские и языческие мыслители, признавая веру в бессмертие, давно уже поднялись над учением о будущей награде и наказании после смерти и отвергли понятие о боге мести, тогда как христисты довели до крайности господствовавшие среди еврейских и языческих обывателей понятия на этот счет и, в частности, целиком переняли популярные представления об адских мучениях, которые в древнем мире были столь же живы и столь же (практически) бессильны, как и в средние века.
Более того, новая вера впоследствии ввела ужасную догму об осуждении всех некрещеных младенцев — учение, которое раньше никому и не снилось, и способное только раздирать человеческое сердце. В остальном формальная этика в смысле долга честности, верности, милосердия и целомудрия была одинаково непрочна. Так же, как и все другие религии того времени, христизм не мог предложить такого кодекса общественного и политического поведения, который мог бы заметно приостановить процесс политического паралича и упадка всего мира империи.
Наоборот, и евангелия и послания предсказывают близость страшного суда и рекомендуют политическую покорность, не обнаруживая никаких признаков другого, земного идеала, а между тем, мы видим, как в конце II в. такой учитель, как Ориген, соединяет с принципом мирового римского владычества идею вселенской церкви. Христианская литература была открыто враждебна всяким сохранившимся еще следам идеала самоуправления.
Далее, поскольку евангелия определенно требуют безбрачия, как условия для скорого, спасения (от Луки XX, 35; ср. Матф. XIX, 12), они отталкивали от себя нормальные народные массы и притягивали к себе фанатиков и людей, претендовавших на святость. Однако, такие доктрины доводились до крайности только наиболее аскетическими проповедниками и сектами; послания Павла, например, в конце концов занимают компромиссную позицию.
Наконец, традиционное представление о том, будто принцип братской любви отличает христианскую теорию и политику от еврейской и языческой, было ложным заключением. Все памятники свидетельствуют, что обычно те самые лица, которые твердили о