Классически эта позиция представлена у Л.Витгенштейна в «Логико–философском трактате». Уже в предисловии он начинает с утверждения: «то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать»[400] То, что находится по ту сторону границы языка, бессмысленно. «Большинство предложений и вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы такого рода вообще невозможно давать ответы, можно лишь устанавливать их бессмысленность… И не удивительно, что самые глубокие проблемы — это, по сути, не проблемы»[401]. В конце своего трактата Витгенштейн, разумеется, приходит к заключению: «Мы чувствуем, что, если бы даже были получены ответы на все возможные научные вопросы, наши жизненные проблемы совсем не были бы затронуты этим. Тогда, конечно уж не осталось бы вопросов, но это и было бы определенным ответом»[402]. Несмотря на это, он констатирует: «В самом деле, существует невысказываемое. Оно показывает себя, это — мистическое»[403]. Однако он заключает: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»[404].
Эта позиция вынесла богословию приговор безмолвия. При преобладании неопозитивистских предпосылок слово «Бог» больше не казалось имеющим смысл (А. Дж.Айер, А.Флу). Здесь можно говорить о семантическом атеизме или о смерти Бога в языке. Но эти характеристики слишком безобидны, поскольку сами эти обозначения бессмысленны.
Однако логический позитивизм, полностью ориентированный на парадигму естественных наук Нового времени, очень скоро доказал свою естественно–научную несостоятельность. Он исходил из того, что наш язык представляет собой отражение действительности. Современная квантовая физика и ее копенгагенская интерпретация (Н.Бор, В. Гейзенберг) отказались от этой предпосылки. Согласно им, мы можем описывать природные микрофизические процессы не точно, а только при помощи взаимодополнительных образов и понятий нашего макро–физического мира[405]. Кроме того, сама научно–теоретическая рефлексия столкнулась с некоторыми проблемами. Они касались, во–первых, невозможности строгой верификации, во–вторых, невозможности отказа от привычного языка как при создании всеобщего формального языка, так и при разработке базовых положений теории. Неопозитивистские предпосылки и их идеал научности начали колебаться.
Первые выводы из этого были сделаны К. Поппером в его «Логике исследования»[406] и, вслед за ним, Г.Альбертом[407]. Согласно им, базисные положения науки принимаются в результате соглашения; они есть установления, действительные внутри scientific community (научное сообщество). Они не могут быть верифицированы, а, в лучшем случае, фальсифицированы. Наука здесь — открытый процесс, исходящий из гипотез, подверженных методу trial and error (пробы и ошибки). Истина при этом — только регулятивная идея, к которой в открытом процессе можно лишь стремиться, но никогда не достижимая полностью. Здесь выражается принципиальный скепсис по отношению к безусловным претензиям на обладание истиной и неприятие любого проявления метафизики. Эта позиция была критически продолжена в исследованиях Т. С. Куна о научных революциях[408]. Согласно Куну, наука развивается не эволюционно (как еще у Поппера), а революционно, посредством смены парадигм. Парадигма — это общепризнанный школьный образец или схема решения проблемы. Обычная наука состоит в том, чтобы вписывать встречающиеся случаи в рамки такой парадигмы до тех пор, пока не будет доказана неспособность парадигмы к решению дальнейших проблем и пока в революционном процессе не произойдет признание новой парадигмы. В особенности примерами таких научных революций могут служить открытия Коперника, Ньютона, Эйнштейна.
Для нашего контекста не требуется подробный детальный разбор этих теорий. Мы привели их здесь в качестве примера, чтобы показать, что сегодня отказ от логического позитивизма, господствовавшего в начале XX в., является почти общепризнанным. Однако с этой переменой богословие еще не спасено. Ведь ни у К. Поппера, ни у Т. С. Куна невозможна речь о чем–то абсолютном и окончательном. Вопрос, как и прежде, состоит в следующем: как возможна речь о Боге, имеющая смысл?
Во второй фазе дискуссии вопрос о возможности религиозной речи обсуждался совершенно по–другому. Поздний Л.Витгенштейн подверг свой первоначальный подход принципиальной критике. Эта перемена в мышлении Витгенштейна выражена в его работе «Философские исследования». Значение слова или предложения состоит уже не в отражении предмета, а в его употреблении. «Значение слова — это его употребление в языке»[409]. Это употребление многообразно и зависит от жизненного контекста, «языковой игры», одновременно представляющей собой жизненную форму. В зависимости от контекста одно и то же предложение может иметь совершенно иной смысл. Оно может означать порицание, требование, объяснение, поучение или сообщение. Таким образом, смысл предложения становится ясным только в рамках той или иной «языковой игры». На место искусственного языка науки пришел нормальный разговорный язык (ordinary language philosophy — философия обыденного языка).
В рамках этого нового подхода к употреблению языка для понимания религиозных высказываний были разработаны две теории: некогнитивная теория и когнитивная. Согласно некогнитивной теории (Р.Брейтуэйт, Р.М.Хеар, П.М.ван Бюрен и др.) слово «Бог» не имеет собственного когнитивного содержания, оно, напротив, является выражением этической позиции, объяснением принятых обязательств, определенного образа жизни, убеждения, выражением определенного взгляда на мир. Так, предложение «Бог есть любовь» не имеет значения индикативного высказывания, напротив, оно является выражением намерения вести альтруистический образ жизни; оно означает: «Любовь есть Бог», она — самое высокое и окончательное. При всем прогрессе, присущем этим теориям, необходимо задать вопрос, воздают ли они должное религиозному словоупотреблению. Ведь, без сомнения, в молитве верующий стремится не к выражению своего нравственного поведения или своего мировоззрения, а к призыву Бога и разговору с Ним. Таким образом, некогнитивные теории отдаляются от религиозного словоупотребления и сводят религиозную веру к этике.
Основы когнитивной теории были заложены Дж.Уисдомом; ее представители — И.Т. Рамзи[410] и В. А. де Патер[411]. Теория религиозного языка Рамзи тесно связана с его теорией disclosure situations (ситуаций раскрытия). Речь идет о ситуациях, в которых людей внезапно «озаряет», до них вдруг что–то «доходит», т.е. внезапно открывается больший и более глубокий контекст происходящего. Подобные ситуации содержат нечто, поддающееся наблюдению, но и больше этого. Результаты «озарения» в таких ситуациях не поддаются проверке, но они и небезразличны; они подходят к опыту и включают этот опыт в смысловой контекст (empirical fit). Понимание этих результатов связано с внутренним участием, оно требует внутренней вовлеченности. В религиозных «ситуациях раскрытия» речь идет о целостном контексте действительности, о целостности нашего опыта; в них вселенная обретает глубину и жизнь. Религиозная речь не описывает, а призывает; она стремится к раскрытию определенного взгляда на мир, который для верующего подтверждается самой действительностью. При всей пользе теорий Рамзи они, в конечном итоге, остались неопределенными. Неясным остались подробности отношения религиозного языка и описанной в нем действительности к реальному миру. Однако Рамзи удалось доказать существование специфически религиозного словоупотребления, которое непозволительно сводить ни к эмпирии, ни к этике.
Несколько дальше продвинулась теория речевых актов Дж. Л. Остина[412], развитая Дж.Р.Сёрлом[413]. В ней различается констатирующее и перформативное словоупотребление. При перформативном словоупотреблении действительность не только констатируется, но и создается в речевом действии. В этом смысле мы можем, например, сказать, что кому–то не дают говорить, что–то испорчено болтовней, предлагается проблема для дискуссии и т.п. При этом становится ясным, что речь имеет характер события. Особенно выразительные примеры такой действенной речи — юридические и устанавливающие статус высказывания: «Я даю этому кораблю имя "Елизавета"»; «Я беру тебя в жены»; «Заседание объявляется открытым». В таких речевых действиях констатируется и дается информация не об объективно данной реальности; напротив, в них речь совершает то, о чем говорится. Эта теория речевых актов имеет большое значение для религиозной речи. Ведь религиозная речь — не нейтральная информация; напротив, она носит характер свидетельства, т.е. в ней, в конечном итоге, нельзя отделить слово и действительность, личность говорящего и предмет разговора. В слове «Бог» о Боге говорится в буквальном смысле; Он становится присутствующим и живым в мире и в жизни. Напротив, там, где о Боге умалчивают, там Он мертв и для нас, т.е. от Него не исходит жизнь.
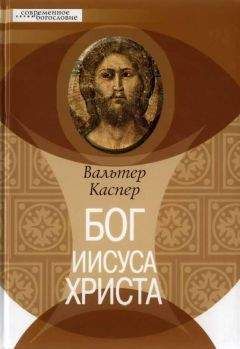

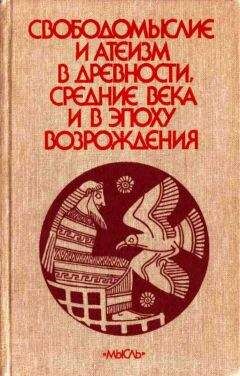
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)
