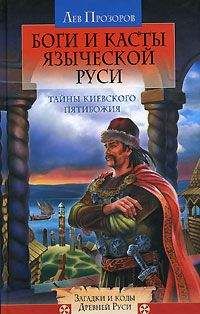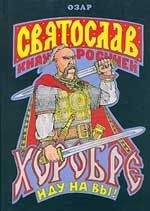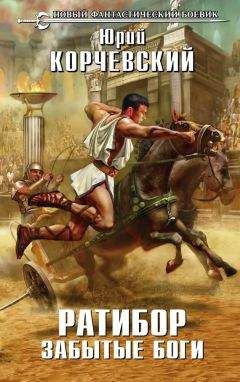Самая здравая Политика не могла бы приискать ничего лучшего для совершеннейшего и неразрывного соединения разных народов, составлявших тогда Владимирово Государство, как дать им общую религию, составив её из почитания всех тех божеств, кои порознь у каждого или, по крайней мере, у главнейших из них находились».
Итак, по мысли Строева, Владимир собрал воедино Божества всех племён своей державы из политических соображений (когда позднее учёные-атеисты стали объяснять чисто политическими соображениями крещение «святого» Владимира, православные очень обижались, как говорится, «а нас-то за что?»).
Точно так же когда-то поступил правитель Римской империи Адриан, во втором веке воздвигший в своей столице гигантское здание, под куполом которого объединил статуи всех наиболее почитаемых Богов своей страны — тут нашлось место и Олимпийцам эллинов, и азиаткам Астарте и Кибеле, и египетским Исиде и Осирису.
Здание так и назвали — Пантеон, от греческих слов «Пан» — все, и «тео» — Бог. Пантеон — Всебожье. Так и повелось величать кумиров пяти Богов «киевским Пантеоном» или «Пантеоном Владимира».
То же истолкование давали ему большинство учёных (последним с такой идеей выступил Игорь Яковлевич Фроянов). Не могли разве что договориться о том, кто из Богов какой народ должен представлять: Хорса считали хазарским (И.Е. Забелин), полоцким (А.Н. Робинсон, очевидно, оттого, что полоцкий князь Всеслав в «Слове о полку Игореве» «перерыскивает» путь великому Хорсу) и даже иранским и торкским (хотя к 980 году никаких иранских племён, вроде скифов или сарматов, давно уже не было у русских границ, а торки-огузы, дальние родичи туркмен и азербайджанцев, наоборот, подошли к этим границам почти через век после крещения Руси).
Мокошь большинство исследователей дружно относили к «финским» Божествам (ещё одна учёная мода, и ныне не угасшая — выискивать в остатках славянского Язычества финское влияние). Очевидно, от имени мордовского племени мокша — других оснований производству киевской Богини в финны я не вижу.
Семарьгл побывал и невнятным «богом степных народцев» (Е. В. Аничков), и иранским Божеством.
Не избежали печальной участи и те Боги, коих Строев отнёс к безусловно славянским — так, Перуна подозревали в том, что он-де «замаскированный» скандинавский Громовержец Тор: надо же как-то объяснить, что в русском Язычестве нет и тени пресловутых «норманнских» варягов и «скандинавских» русов!
Это воззрение воплотилось даже в поэзии: в стихотворении Александра Кондратьева «Перун — Велесу» Громовержец горделиво заявляет:
Нет, я не брат тебе, о Волос, бог скотов,
Бог племени рабов, покорно гнущих выи,
Варяжских витязей дружины боевые
Меня к вам принесли от дальних берегов…
И чтобы не было неясности, про каких именно варягов идёт речь, добавляет:
Для викингов-князей я тот же древний Тор.
Другие учёные видели в нём литовского Бога (того же Перкуна). Вытащили даже албанское (!) не то божество, не то просто слово «перынди» или «перенди».
А.Н. Робинсон определил Стрибога совершенно изумительным образом: это, оказывается «славяно-половецкое Божество».
С какой стороны этот Бог с насквозь славянским именем оказался причастен к степнякам- половцам, предкам татар, казахов и алтайцев, лично я, читатель, постичь не в силах. Что до Даждьбога, то самые рьяные сторонники «теории заимствований» не сумели отыскать на него какого-нибудь компромата. Чересчур уж прозрачным было славянское звучание его имени.
Словно бы в отместку, его почитание постарались сузить до неприличия — Даждьбог оказывался то киевским Божеством (всё тот же Аничков), то черниговско-северским (польский исследователь Хенрик Аовьмянский).
Если Вас, читатель, изумит этот странный аукцион, на котором славянские учёные словно старались побыстрее сбыть на сторону Богов своих предков, я охотно объясню, в чём дело.
Дело во времени.
Вторая половина девятнадцатого столетия и первая половина столетия двадцатого были временем величайшей смуты в умах — смуты, которая с неизбежностью выплеснулась в 1917 году на просторы реальной России и залила их кровавым потопом.
Со смертью государя-рыцаря, железного императора Николая Павловича, умы русского общества охватило брожение, вылившееся в два основных направления: западничество и славянофильство.
Западники, либералы-прогрессисты, не находили ничего хорошего в прошлом России, наблюдая там одну дикость и отсталость. Во имя прогресса России следовало, по мнению этих господ, как можно скорее отказаться от всех «пережитков прошлого» и как можно больше подражать таким светочам прогресса, как Англия и Франция.
Славянофилы-почвенники, напротив, смотрели на западные народы, как на чужаков, и видели спасение России в возвращении к православным ценностям и объединении под знаменем этих ценностей всех славян, коим надлежало (исключительно по мнению славянофилов, сами славяне, особенно поляки, относились к этим проектам без всякого энтузиазма) слиться в единой братской семье под сенью православного креста и скипетра русских царей — вкупе с «братскими» инородцами Сибирской тайги, Кавказских гор, болот Карелии и Поволжья, кочевников степей и тундр.
Казалось бы, ничего общего у этих течений быть не могло — однако не всё было так просто. Много позже один из этих людей сравнил их споры с образом византийского орла, герба империи: «Головы смотрели в разные стороны, но сердце билось об одном».
Вот уж воистину как только доходило до дела, яростно спорившие «мыслители» оказывались полностью единодушны.
Это проявилось, скажем, в изумительных по бессмысленности балканских война Русских парней-рекрутов из нищих, лапотных, завшивленных, неграмотных русских деревень отправляли погибать за сытых усатых «братушек» из чистеньких благополучных домов под добротной черепичной кровлей, не торопившихся не то что погибать за «славянско-православное братство» или «во имя торжества прогресса над османским мракобесием», но даже и делить щедро намазанную коровьим маслом кукурузную лепёшку с полуголодным русским солдатиком.
И, однако, ни западники, ни славянофилы своего протеста не выказали.
Одних устраивало то, что солдаты «отсталой» России гибнут во имя интересов «прогрессивных» Франции и Англии.
Других — всё то же «братство», до которого никому, кроме них, дела не было — ни сербским князьям, проигрывавшим друг дружке в карты пожертвования русских добровольцев. Ни бугаям-болгарам, прятавшим зерно от русских фуражиров и рассыпавшимся по подвалам и кукурузным полям при первом появлении на горизонте турецких войск.
Ни матери какого-нибудь Прошки или Федьки, разорванного бомбой или поднятого на турецкие штыки за тридевять земель от родной избёнки под соломенной крышей.
Столь же трогательное единение «непримиримые оппоненты» выказывали, портя отношения России с её единственным надёжным союзником в Европе и, кстати, наиболее близким родичем славян по крови — немцами.
Короче говоря, сравнивший западников-прогрессистов и славянофилов с двухголовым византийским мутантом был насквозь прав. [7] А замечательный русский поэт К. Толстой высказался по этому поводу и вовсе исчерпывающим образом:
Идут славянофилы и нигилисты,
У тех и у других ногти нечисты,
Ибо, хотя они не сходятся в теории вероятности,
Но сходятся в неопрятности.
И оттого нет ничего слюнявее и плюгавее
Русского безбожия и православия.
В отношении русских Богов из выстроенного Владимиром капища оба лагеря проявляли то же трогательное единение.