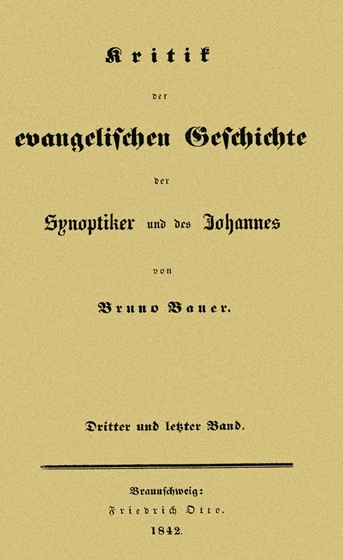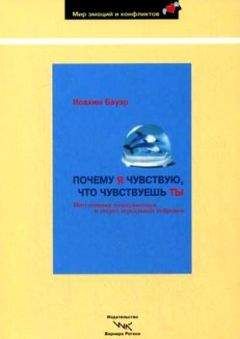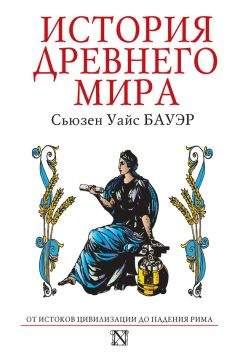собой и сочинение Иосифа, так как последний в том месте, где он говорит об этом старом пророчестве, говорит, что оно относится к Веспасиану, а Таит относит его одновременно к Веспасиану и к Титу, так как имеет в виду пророчество заключенного Иосифа о том, что Тит станет владыкой мира, как его отец. Но это остается в силе: Светоний знал и использовал рассказ Таита и не имел другого источника, кроме сообщения Иосифа, из которого до него могла бы дойти весть об этом ожидании, давно распространенном на Востоке. Она дошла до него только благодаря выводам, предположениям и преувеличенным тенденциям исторического прагматизма.
Вернемся, таким образом, к Иосифу. Он сообщает, что иудейская военная партия была особенно воодушевлена на сопротивление римлянам двусмысленным пророчеством в Священном Писании, а именно тем, что из их страны в то время выйдет мировой правитель. Но она сильно ошиблась бы, если бы объявила это пророчество отвечающим ее интересам, поскольку речь шла о возвышении Веспасиана, который был провозглашен мировым правителем в Иудее.
Широко распространенное ожидание, которое держало в напряжении весь Восток в начале христианской эры и о котором так много говорят богословы, сжимается до огненной идеи иудейской партии во времена Веспасиана. И Иосиф даже не дает нам точных известий об этой фиксированной идее, не давая возможности заподозрить, что он также приписал этой военной партии знакомую ему идею и внес в свой рассказ неразрешимую путаницу. Пророчество Даниила о грядущем князе, который разрушит город и святилище, он прямо объясняет как относящееся к разрушению еврейского государства римлянами. Это пророчество могло прийти ему в голову только тогда, когда после несчастных дней Иотапаты он осознал божественное провидение в гибели иудейского народа и победе римлян и предстал в качестве пленника перед Веспасианом. Не только сон, говорит он сам, но и знакомство с пророчествами Священного Писания вселили в него уверенность, что по божественному промыслу начинается новый мировой порядок, что все счастье отошло от его народа и перешло к римлянам и что Веспасиану и его сыну суждена победа. Ни в каком другом пророчестве, кроме пророчества Даниила, Иосиф не мог найти предсказания о возвышении Веспасиана, поскольку князь, о котором говорит Даниил, должен быть мировым правителем или доказать свое призвание к мировому господству в Иудее, если он положит конец демократии, свергнув святилище. Так вот, мог ли Иосиф еще во времена Иотапата воспринять пророчество Даниила в этом смысле и применить его к римскому победителю, или же в своем историческом труде он сделал это сочетание более определенным после успеха: остается фактом, что только это пророчество могло быть применено к императору. Но именно его и только его он имеет в виду, когда говорит, что партия воинов при сопротивлении римлянам опиралась на двусмысленное пророчество Писания. Не зря он говорит, что оно было двусмысленным: он чувствует, что ошибся, чувствует — без дальнейшего изложения, — что на самом деле партия войны не могла опираться на это пророчество. Мы должны сказать: она не могла даже подумать о нем, поскольку в нем в скупых словах предсказано низвержение святилища и падение города. Но Иосиф не обращает внимания на эту невозможность, он думает только об этом среднем — он думает только о том, что в этом отрывке говорится о мировом правителе, и теперь хочет сформировать интерес своего рассказа таким образом, чтобы тем же пророчеством, провозглашающим мировое господство победителя, побежденные позволили себя обмануть и подстрекали к сопротивлению. Но евреям и в голову не могло прийти найти в этом пророчестве залог успеха своего сопротивления».
Словом, не только эта великолепная заметка о всеобщем ожидании Востока, что Владыка мира выйдет из Иудеи, но и другая, о надеждах евреев-христиан, которая, даже если бы была более достоверной, не помогла бы нам и нисколько не сказала бы о взглядах Востока в момент рождения Иисуса, — она тоже для нас потеряна.
Если апологет все же хочет обратить взор волхвов в сторону Иудеи, он должен использовать «живое общение», связывавшее народы Востока и Запада в момент рождения Иисуса, и сослаться на «предчувствие», которое «всегда предшествует великим эпохам мировой истории». Конечно, великим эпохам всемирной истории всегда предшествует общее предчувствие неизбежности перелома всех условий, но это предчувствие никогда уже не сопровождается развитым сознанием того, в какой именно форме, в какой точке мира и по какому поводу возникнет новое. Как будто, говорят нам, «ожидание Мессии не было распространено среди множества рассеянных евреев» и легко могло бы придать этому предчувствию более определенную форму и направление в сторону Иудеи. Итак, мы обещаем — что, впрочем, само собой разумеется, поскольку речь идет только об истине, — что мы немедленно сдадимся, если нам будет предоставлено доказательство того, что евреи до времен Иисуса распространяли среди народов древности определенное ожидание Мессии. Однако, не дождавшись такого странного доказательства, которое апологет давно должен был бы попытаться установить, мы считаем, что согласны с противоположным мнением, что пророческая концепция была переведена в рефлекторную форму фиксированной идеи только в следующие века до появления Иисуса, и поэтому не могла быть передана в качестве догмы иноземным народам задолго до этого.
Но даже если верующий богослов теряется в естественном объяснении — и, как мы видели, в бездонной пустоте, — ему не избежать обиды, которой он, собственно, хотел избежать, и он должен вернуться к вере, которую он никогда не должен был оставлять ради священного текста. Маги нашли Мессию, даже если они следовали «теории собственного изобретения»: достаточно, они нашли его. Значит, Бог должен был «использовать ошибку», чтобы привести их к истине. Но может ли это быть оскорбительным для нас? — отвечает Неандер, более подробно напоминая, как в мировой истории «истинное и ложное, добро и зло настолько взаимосвязаны, что последнее часто должно служить переходным пунктом для второго. Даже в заблуждении Бог удовлетворяет потребность искренне ищущего духа». Но этот принцип взаимосвязи добра и зла, если он правильно выражен и развит, прежде всего, категорически противоречит той точке зрения, с которой может двигаться только апологет. Как можно согласиться с Белиалом и т. д.? Но добро и зло не только связаны, но одно само по себе есть другое, и только отсюда следует, что зло или ложь может быть диалектической «точкой перехода» к добру. Тогда этот принцип имеет свое место и истину только в том представлении, для которого всемирная история есть развитие самосознания, ибо только для него может быть истинным, что прежние формы самосознания, которые представляются воображению как