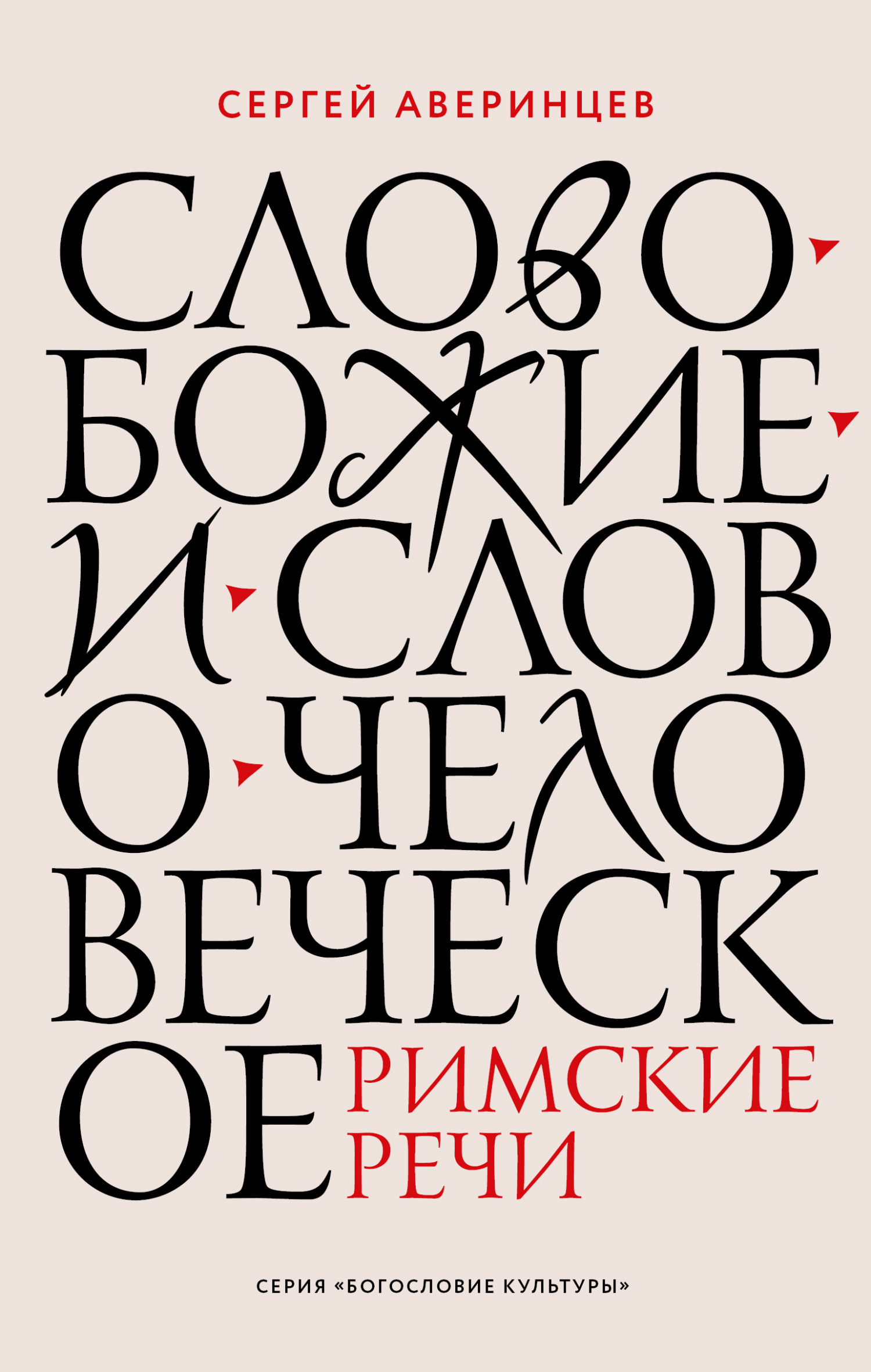аспект заостряет философия (противопоставление Софии и практической «добродетели» у пифагорейца Филолая – 32 А 16). Интеллигибельный характер Софии подчеркивает послесократовская философия: Аристотель, отделяя Софию от чувственного восприятия, определяет ее как «знание о причинах и источниках», «знание о сущности» (см. Met. I 983а 24; III 1, 995в 10; рус. пер., М. – Л., 1934). Ксенократ определял Софию как «знание о первопричинах и об умопостигаемой сущности» (фрагм. 6), платонические «Определения» – как «знание вечно-сущего, умозрительное знание причины сущего» (414 В). Здесь София относится еще к познавательному процессу, но именно отсюда совершается поворот к новому, онтологическому пониманию Софии. Согласно Платону, София «…есть нечто великое и приличествующее лишь божеству» (Phaedr., 278 Д), тогда как познающий человек может быть только «любителем Софии» – «фило-софом». Знанием платоновско-аристотелевской сущности, которая мыслит самое себя, может обладать только она сама, и, следовательно, София присуща самому бытию. Такое понимание укореняется в неоплатонизме. Прокл усматривает в умозрительном строе эйдосов «истинную Софию, которая есть знание самой себя и София самой себя, на самое себя направленная и самой себе сообщающая совершенство» (In Cratyl. proem. XVI). Эта же София выявляется и как София космоса, сообщающая материи меру, красоту и строй – возвращение на высшем уровне к изначальному пониманию Софии как предметной сноровки ремесленника, внедряющего структурность в материал. Платон в «Тимее» (29а) говорит о мастере-демиурге, который построяет космос, держа в уме софийный «вечный образец».
Понятие Софии в греческой философии лишено какого-либо личностного облика, который оно с необходимостью приобретает в библейской традиции. Во-первых, возраставшая трансцендентность библейского Бога миру требовала некоторого имманентного опосредствования, которое было бы одновременно и тождественно Богу, и отлично от него (понятия-мифологемы «дух Божий», «присутствие», «Слово»). Сюда же относится идея «закона» как демиургического софийного «образца» – ср. талмудические слова: «Бог воззрел на закон и сотворил мир» (Rabba Ber. 1, 1). Во-вторых, в остроличностной ветхозаветной мифологии самораскрытие Бога в мире должно быть понято опять-таки как лицо, как второе и подчиненное «Я» Бога. В позднебиблейской дидактической литературе мы встречаем «Премудрость Божию» (в греческом тексте «София»), которая описана как личное существо. Ее отношение к Богу пассивно и сводится к воспроизведению Его энергий; она особенно связана с творчески-устрояющим аспектом Бога («Книга притчей Соломоновых», VII, 4 и далее; VIII, 27–30). В природу этой космогонической Софии-«художницы» входит «веселье», т. е. некоторый творческий Эрос, понятый, разумеется, не психологически, а строго бытийственно (см. также VIII, 30–31) (ср. слова Шиллера о радости, движущей «колеса великих мировых часов»). В раввинической и позднее гностической мысли София сближалась с еврейским reʔšit и греческим ἀρχή: оба термина означают «начало» в смысле «основания», лона изначальности. Хотя у понятия Софии, казалось бы, много общего с понятием логоса, специфику ее составляет женственная пассивность («зеркало»!), сопряженная с материнской многоплодностью, ее «веселие», а также глубинная связь не только с космосом, но и с человечеством (см. там же, VIII, 31), за которое она заступается, и притом именно с человеческим коллективом, общностью (см. Tanh., В., Nizzabim, 25а).
Христианство усваивает личностное понимание Софии. Ориген описывает ее как «бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но притом одушевленное и как бы живое» (In Io., 1, 3, 4). В раннюю эпоху София совпадала с лицом Христа-Логоса («София Бога» – 1 Кор. 1: 24). Но рано выступают и внелогосные аспекты Софии, связанные с «игрой» и «весельем», а также с идеей человеческого «единомыслия», «целокупности», «общности». В латинской христианской литературе термин «София» вытесняется почти синонимическим обозначением мистически понятой «Церкви», поэтому собственно «софиологии» католическая традиция почти не знает. Победа христианства в IV веке оживила теократико-антропологические аспекты Софии, особенно в Византии. Под знаком Софии христианство пришло на Русь (Софии посвящены три главные русские церкви – в Киеве, Новгороде и Полоцке XI века; митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати» описывает крещение Руси как приход «Премудрости Божией», т. е. Софии). Специфический характер древнерусской духовной культуры, выявлявшей свое главное содержание не в «логосе» абстрактной спекуляции, но в жизнестроительной этике «соборности» и в предметно-связанных формах художественного творчества, дал идеалу Софии особую важность. На русской почве складывается богатая иконография Софии. Личный облик Софии как в византийско-русской, так и в католической сфере постепенно сближается с образом Девы Марии как просветленной твари, в которой становится софийным, «облагораживается» весь космос.
На Западе специально к символу Софии обращается лишь немецкая мистика в лице Г. Сузо, а затем Я. Бёме, позднее – пиетизм (Г. Арнольд). Из рук немецкой мистики символ Софии принимает Гёте, но в противоположность Бёме и с сильным уклоном в язычество подчеркнув ее материнские черты: Фауст, не удовлетворенный чистым интеллектуализмом и пребывающий в глубоком внутреннем одиночестве, находит избавление в приходе к Софии («вечной женственности») – духовно-телесному началу, в котором сняты противоречия и помехи к человеческой коммуникации. София символизирует при этом мировую меру бытия. Фауст, разрушив отжившую средневековую меру и выйдя к техническому активизму, оказывается в опасности утратить вообще всякую меру, и Гёте спешит привести его к свободной и разумной мере – Софии. Образ Софии воспринимает и Новалис. Но продолжается развертывание и «антисофийных» возможностей новоевропейского индивидуализма (образы разрушительной «анти-Софии» в музыкальных драмах Р. Вагнера – Брунгильда, Изольда, Кундри). Неутешительные возможности фаустической внемерности выражены в творчестве Достоевского, противопоставляющего им символ земли – Софии. Бытие как бы разбито для Достоевского на три уровня: эгоистически-бесструктурная «среда», сохранившая софийную структурность «почва» и сама София – «земля».
Спекулятивной разработкой понятия Софии в связи с теми же социальными импульсами, которые воздействовали на Гёте и Достоевского, занялся в конце XIX века русский идеализм (с опорой на восточно-христианскую традицию). Для Вл. Соловьева София есть «…единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее ее, но …все в себе заключающее» («Россия и Вселенская Церковь», М., 1911, с. 303–304). Это выливается в универсалистскую утопию, где ни одно из противостоящих начал каждой антитезы (авторитет и свобода, традиция и прогресс и т. п.) не подлежит упразднению, но всему должно быть указано его «настоящее» место в свободном всеединстве (ср. аналогичные идеи в неотомизме). Инициатива Соловьева была подхвачена так называемым «русским ренессансом». Флоренский, внесший существенный вклад в научное изучение истории образа Софии (историко-философские и иконографические экскурсы), видит в Софии «идеальную личность мира», «психическое содержание» разума божества, мудрость как целомудрие, которым поддерживается целость мира, «актуальную бесконечность» (см. «Столп и утверждение истины», 1914, с. 319–92). Систематическим развитием этого круга идей занимался С. Булгаков, подчеркивавший неприменимость к Софии антитез «…абсолютного и относительного, вечного и временного, божественного и тварного» («Свет невечерний». [М.], 1917. C. 216). Вокруг понятия Софии движется мысль Н. О. Лосского, С. Л. Франка с его «панентеизмом» и др. Идеал Софии как предметной