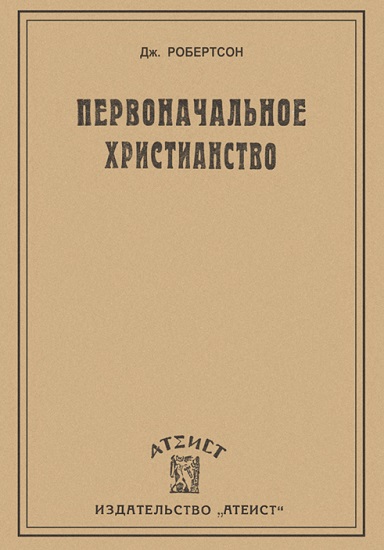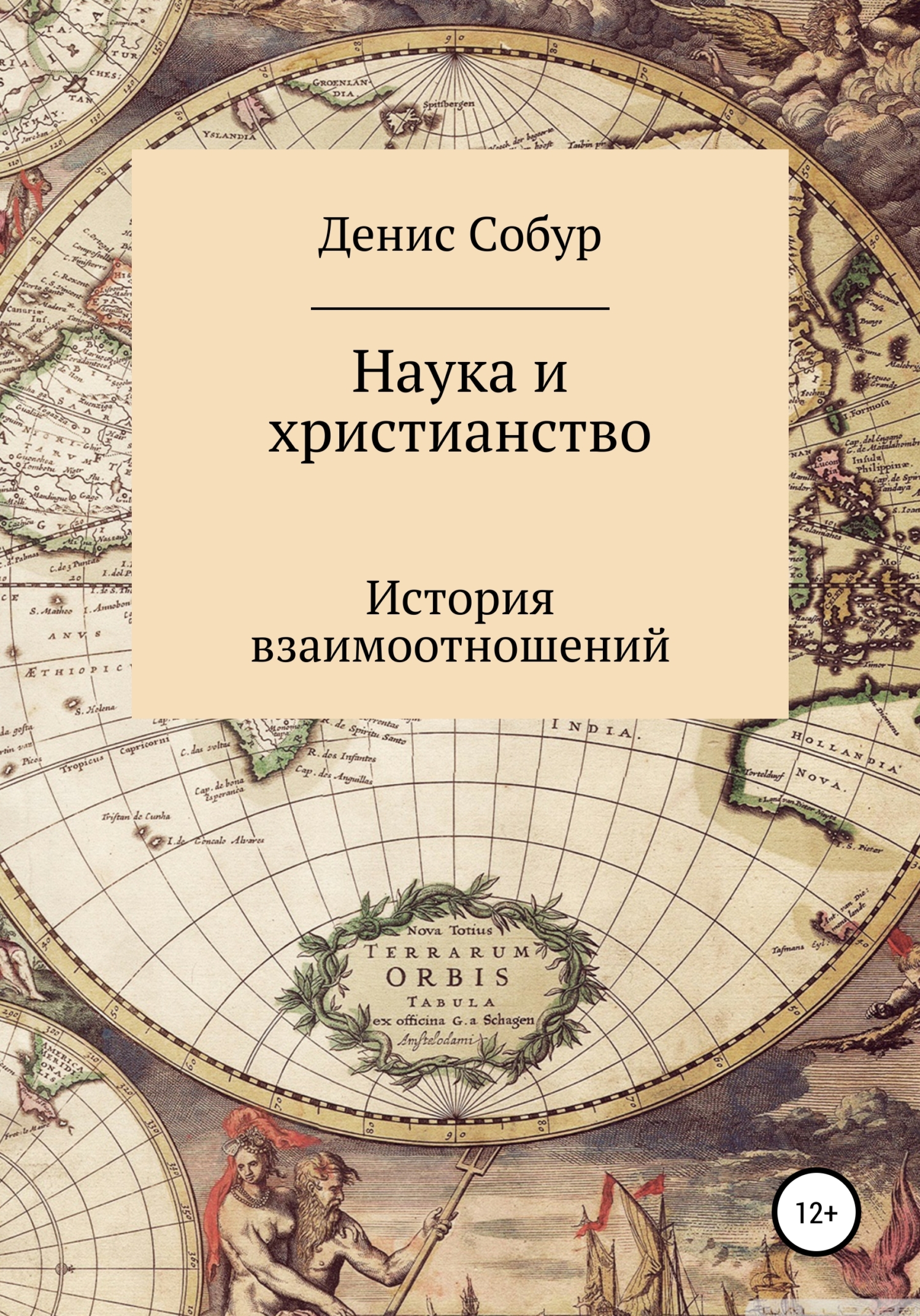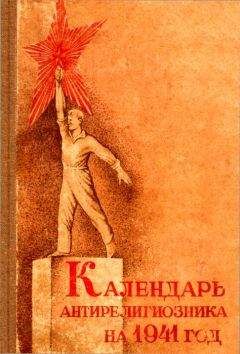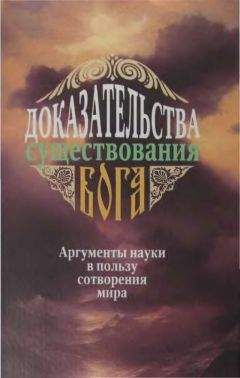христиан в том, что в вопросах целомудрия и единобрачия они стоят ниже даже многих язычников. Официальная церковь, конечно, не могла коренным образом перемениться под влиянием монтанизма, но извлекла отсюда урок о необходимости, по крайней мере, номинального безбрачия духовенства. Таким образом, каждая более или менее заметная так называемая «ересь» оставила свой отпечаток на церкви.
Движения Маркиона и Монтана лучше всего показывают, какое значение в то время имела для сохранения секты с ее разного рода священными книгами сила организованности. Еретики использовали урок, который первые христисты дали иудаизму, и в свою очередь показали, что если организованный иезуизм мог преуспевать на ниве язычества вне иудаизма, то и новые христианские секты могут жить вне ортодоксальной церкви, раз уже их заставляли от нее отделяться.
Монтанизм, как и маркионизм, просуществовал века и был, наконец, подавлен, по-видимому, только прямым насилием со стороны христианских императоров, которые, пользуясь орудием церкви, имели в своем распоряжении гораздо более действительные средства для гонений, чем язычники. Развитие этих ересей и, еще больше, успех выступившего позднее манихейства, применившего, как мы увидим дальше, еще лучшие методы организации, устраняют все трудности к тому, чтобы объяснить рост христианства чисто естественными причинами. При наличии немногих существенных условий создание секты было делом простым и легким.
Монтанизм, а после него манихейство претерпели гораздо больше гонений со стороны и христиан и язычников, чем когда-либо испытали христиане; и даже при преследованиях со стороны утвердившейся церкви только непопулярность по существу идеалов монтанизма дала возможность подавить его, как секту. Манихейство, как мы увидим впоследствии, оказалось почти неодолимым даже тогда, когда политические перемены дали церкви такую силу организации и понуждения, какая при других условиях не могла никогда создаться.
Словом, к концу III века церковь в силу внутренних условий быстро приближалась к распаду на новые непримиримые между собой организации.
Если не считать заимствованной у иудаизма привычки к дискуссиям по вопросам учения, содержание христианства III века преимущественно заключалось в обрядах и церемониях, как и у любого языческого культа. Храмы, построенные для отправления культа, еще редкие во втором веке, стали обычным явлением, в них начали появляться уже иконы, и каждение вошло во всеобщее употребление, несмотря на первоначальное отвращение к этому характерному для идолопоклонства обряду. В наиболее богатых церквах можно было видеть золотые и серебряные медали. Здесь, как и в других случаях, оказалось невозможным преодолеть языческие образцы.
К тому времени крещение и причащение стели подлинными «мистериями», в которые новичков посвящали так же, как и в языческих культах. Крещение совершалось только дважды в году, и то только над лицами, подвергшимися долгому предварительному испытанию. Первым актом было торжественное заклинание, которое должно было освободить посвящаемых от власти злого духа или духов. Затем, после того как посвящаемые прочитывали символ веры (на Западе его читали и на греческом, и на латинском языках, причем греческий текст играл роль магической формулы), их погружали в купель, осеняли крестом, над ними произносили молитву и священнослужитель, епископ или пресвитер, особым образом касался их руками; наконец, они получали мед и вино и возвращались домой, украшенные белым платьем и венцом.
Евхаристию, совершавшуюся обычно по воскресеньям, считали безусловно необходимой для спасения и воскресения из мертвых; поэтому причастие давали и детям еще до того времени, когда крещение было объявлено для них обязательным. При совершении таинства могли присутствовать только крещенные, но частицы освященного хлеба и вина разрешалось брать с собой для больных членов общины; предполагалось, что они обладают целебными свойствами.
Знак креста тоже тогда постоянно применялся для той же цели, так как ему приписывали особую силу против физического и духовного зла, поскольку вообще различали физическое и духовное. Болезни, как и у дикарей во все века, рассматривались обычно, как дело злых духов; медицины, поэтому, не признавали, предпочитая лечение посредством заклинания. Наконец, крещенный мог пользоваться молитвой господней с ее заклинанием против «лукавого»; оглашенные, только еще добивавшиеся членства, были лишены этой привилегии.
6. Споры по поводу основных догматов.
Основное ядро для теистско-христианского вероисповедания было дано церкви, как мы видели, в четвертом евангелии. Первые еврейские иезуисты были просто унитариями (сторонниками единства) [16]. У Павла, насколько об этом можно с уверенностью заключить из его бесконечно интерполированных посланий, Иисус, наверное, не составлял части единой троицы.
В начале II века ортодоксальные христисты также мало имели какое-либо определенное богословие, как и неграмотные почитатели любого другого бога-спасителя. Евангелия научили их самое большее считать, что рожденный сверхъестественным путем Христос вознесся на небо, чтобы сесть в видимом образе одесную отца, как Геракл, Дионис, или Аполлон сидели рядом со своим отцом Зевсом. В середине II века Юстин-мученик говорил о Логосе не как об олицетворенном проявлении божества, а как о вдохновении, внушаемом людям богом в различной степени и в различное время. Только уже после Юстина четвертое евангелие начинает оказывать свое действие.
Христианским апологетам, высмеивавшим верования язычников, пришлось столкнуться с обвинением их самих в том, что они тоже политеисты, им бросали тот же вызов, который они обращали к язычникам: если страдающий спаситель был человеком, за что же ему поклоняться? А если он был богом, зачем оплакивать его страдания?
Попытка преодолеть эту трудность сделана в ереси Праксея, члена христианской церкви, прибывшего из Азии в Рим в конце второго века; он учил, по-видимому, что сын и святой дух ire отличаются от отца, но что они составляют просто проявления единого бога, и отец вошел в деву и вновь родился, как Иисус Христос. Его сразу обвинили в том, что он «заставляет отца страдать» на кресте, и его секта на этом основании одной из первых была, по-видимому, окрещена патрипассианской.
В том же или в ближайшем столетии то же учение проповедует Ноет из Смирны, а в руках Савелия из Ливии, имя которого его противниками было присвоено этому учению, оно стало одной из наиболее влиятельных ересей того века. Действительно, Савелий дал единственную приемлемую формулировку теории троицы. Для него три personae (таков был этимологически правильный латинский термин, как и ранее применявшийся греческий термин prosopon) — не личности, а лишь проявления или модусы божества, как могущество, мудрость и благость или законность, милосердие и предначертание; этот способ решения вопроса прельстил многих богословов, включая Сервета и Кольриджа.
Но Савелий, как и его предшественники, навлек на себя кличку «патрипассианца»; это обвинение он парировал, выдвигая формулировку, по которой с человеком Иисусом соединилась только некая энергия, исходящая от божественного естества.