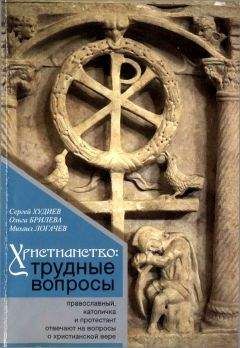Христос мне в это время чисто по-человечески импонировал. Как и многие интеллигенты, я усвоила, так сказать, булгаковский взгляд на Него (не о. Сергия Булгакова, конечно, а автора «Мастера и Маргариты»), Еще мощным источником «информации» о Нем была моя любимая рок-опера «Jesus Christ Superstar». Но мысли о Троице, Искуплении, Богочеловеке меня не посещали. Был такой умный человек, иногда говорил дело, иногда — глупости, а его взяли и распяли, дураки. Не распяли бы — другие дураки не сделали бы из этого культа.
Когда произошел самый первый толчок, сказать трудно. В университетском курсе была история литературы и история философии — в первом случае невозможно было пройти мимо украинских духовных стихов, во втором — мимо св. Августина и схоластов. Потом был другой вуз, там — реферат по истории, по православным братствам на Украине. Были такие книги, как «Гиперион» Д. Симмонса и «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Нельзя сказать, что каждое из этих событий давало какой-то ощутимый сдвиг, — но накапливалась, как говорится, критическая масса. Момент ее накопления, как и момент начала цепной реакции, проследить трудно. Можно достаточно уверенно сказать только о моменте взрыва: 19 июля 1996 года в автокатастрофе погибла моя младшая сестра.
По всем законам вероятности погибнуть должна была я. Это я перехожу дорогу, как раззява; Надя всегда пересекала улицу очень внимательно. Особенно с собакой. Она вела с прогулки собаку, они и погибли вместе: Надя и Фараон.
Как там у Михал Иосифыча? «Вера — это аспект внутренней, принципиальной, имманентной непримиренности человека со всем положением вещей в этом мире». Ага, ага… Первый мой шаг к вере был именно таким: я не могу повернуть время вспять и остаться в ту ночь дома (а в этом случае именно я повела бы собаку гулять, и в силу своей природной лени не пошла бы на набережную), но я зато могу уверовать в то, что на том свете Надя жива.
Хочу специально отметить вот что. Моя скорбь отнюдь не была невыносимой. Когда на похоронах и после мне говорили, что я «хорошо держалась», я боялась признаться в истинной причине этой «стойкости»: я просто ничего не чувствовала. Нет, это не был шок от утраты, временное оцепенение чувств: я действительно не скорбела. Не потому, что мы с сестрой были в плохих отношениях, а потому, что я, что называется, «по жизни» жестокий человек. Именно тогда ко мне пришло осознание того, что я, по большому счету, не умею любить. Что я неполноценный в каком-то отношении человек, нравственный урод. Для меня реальна только моя собственная боль. Даже незначительная. Чужая — боль близких людей, к примеру, — меня не трогает.
Был еще момент так называемой «утраты смысла жизни». Если я, дорогие мне люди, дети, друзья, кто угодно, могут вот так, в одну секунду и нелепо погибнуть, то зачем вообще все? Зачем я пишу роман? Зачем воспитываю сына? Зачем вынашиваю дочь? Зачем сочиняю рекламу и статьи? Чтобы приблизить момент взрыва Вселенной? А не пошла бы она подальше, эта Вселенная…
Экзистенциалистки из меня не вышло. Упиваться бессмысленностью бытия как таковой не получилось. Для чего мы пишем кровью на песке — наши песни не нужны природе.
Итак, абсурд бытия я преодолела совершенно рассудочным актом столь же абсурдной веры. Это принесло временное облегчение, но твердое сознание того, что с миром многое не так и со мной многое не так, осталось. Факт собственного нравственного уродства был для меня откровением, и что делать с этим фактом, я не знала. Попытки исповедоваться подругам и психологам наталкивались на советы типа: «Прими себя такой, какая ты есть, прими и полюби». Я не могла объяснить, что меня разрывает пополам и я не знаю точно, какая из моих половин является «мной, какая я есть» — жестокий и эгоистичный вундеркинд или то новое, что сейчас грызет меня изнутри. Поверить в то, что я себе нравлюсь, было куда сложнее, чем поверить в Бога «волевым решением». Я не могла противоречить очевидности: жизнь показала, что я хуже, чем я считала себя. И мой вялый пантеизм ничем мне здесь не мог помочь.
Хотела перейти к следующему моменту и вспомнила еще одно, важное. Когда я покупала похоронные принадлежности в ближайшей церкви, церковная бабушка дала мне какую-то бумажечку с молитвой и напутствием: «Без цей бамажки в рай нэ пустять». Этот эпизод буквально развернул меня спиной к христианству и православию. Когда я в последующие годы искала Бога, я искала Его где угодно, но не там. На любые попытки православной проповеди отвечала в духе: «А у вас попы толстые и на мерседесах ездиют».
Кстати, по этой же причине персонаж моего первого романа, «Ваше благородие», оказался католиком. Сначала я подумывала сделать его буддистом (под впечатлением от Месснера), этаким самураем, но буддист из него не получался. Получился (я это поняла гораздо позже) нормальный европейский крестоносец. Кондовый атеист из него тоже не получался — я уже поняла, что в окопах атеистов не бывает, а мой герой действовал именно в окопах. Православным я его тоже не могла себе представить — а тут показали «Генриха V» Кеннета Бранна, и на меня большое впечатление произвел хор, поющий Non nobis Domine после битвы при Азенкуре. Я решила вставить в роман тоже что-нибудь этакое. И у меня получилась сцена, где герой, оставаясь в одиночку прикрывать отход товарищей, читает Credo. На латыни, естественно (я о католичестве тогда знала столько же, сколько и о православии, и думала, что католики молятся исключительно на латыни).
Сцена вышла неожиданно сильной. Это было уже в 1998 году, примерно летом. До ее написания я думала, что христианство — это придуманный попами способ сделать людей слабыми, чтобы набить свои карманы. После того как я ее написала, я уже не могла так думать. Я описала очень сильного человека, который совершает очень сильный поступок. И читает при этом Credo. По всем законам литературы, если герой, хорошо выписанный, делает волей автора нечто неорганичное — видно, что персонаж «изнасилован». Но в случае с моим персонажем это не так: он был сильным человеком, и, несмотря на это, молитва в его устах была органична.
Это достаточно забавно — когда к обращению тебя толкает твой собственный герой.
У меня словно бы раскрылись глаза. Я ведь кое-как знала историю. Довольно долго ее у нас делали христиане. Среди них было немало умных и сильных людей — «несмотря на их христианство», как думала я. Этот случай заставил пересмотреть кое-какие взгляды: а что, если не «несмотря на», а «благодаря»? Положа руку на сердце, призналась я сама себе, за свою веру, что бы она собой ни представляла, я не готова умереть. И, не буду себя обманывать, я не готова умереть просто за друзей и тем паче за других людей — не настолько я их люблю, не настолько сильно умею любить. Давай, подруга, расставим все точки над i: ты называешь слабыми, малодушными людей, которые следуют правилу «возлюби врага», в то время как сама не способна возлюбить родную сестру.
Мое мнение о христианстве изменилось. Я перечитала Евангелие. Правда, увязать его с Ветхим Заветом не могла, да и не хотела. Бог Ветхого Завета мне активно не нравился. Тем не менее я стала называть себя христианкой. В терминологии моей тогдашней тусовки — «ксианкой». Так, наверное, будет даже правильней, потому что христианством то, что я исповедовала, строго говоря, не являлось. Я жила под девизом: «У меня Бог в душе, в церковь ходить мне незачем». Христа я уже исповедовала Господом, но считала, что Ветхий Завет не имеет к Нему никакого отношения: Он и есть настоящий Господь, а тот неприятный тип, которого описывает Ветхий Завет, «бог века сего». Это был бы махровый гностицизм, если бы я вдобавок еще и отвергала материальный мир с его благами.
Но окончательно успокоиться на своем «ксианстве» я не могла. Во-первых, оно не наполняло меня духовно; не входило в мое сердце и не изменяло меня. Во-вторых, у меня был перед глазами пример другой «ксианки» — моей собственной мамы. Ее топтание на пороге Церкви меня раздражало: или туда, или сюда. А то: прийти поставить свечку за упокой души дочери, сидеть у меня на загривке, чтобы я крестила своих детей, повесить дома иконки — это да; исповедать Христа Господом — это нет. Тогда зачем тебе Его образок? Не один ли шут, на какого пророка молиться — молись на Илью.
Что самое смешное, на себя кума, то есть я, оборотиться не могла. Что моя межеумочная вера носит столь же нелепый характер, мне и в голову не приходило.
Так, в состоянии «ксианства», я и приступила к следующему роману — «По ту сторону рассвета». Только не подумайте, что я здесь рекламирую свое творчество — просто ко всему этому оно имеет самое прямое отношение.
Идея была такова: описать с «реалистической» точки зрения историю Берена и Лютиэн (по мотивам Толкина). Сделать с «Лэйтиан» нечто подобное тому, что Еськов сделал с «Властелином колец».
Я очень лихо написала четыре главы — и застряла намертво. Ни вперед, ни назад.