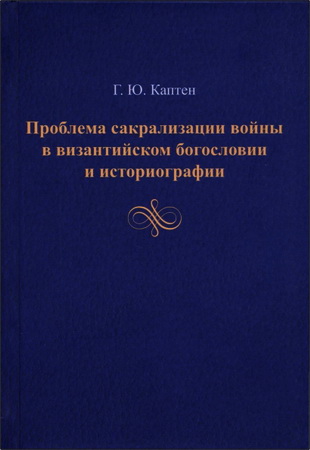со стороны жителей Константинополя было враждебным. Однако все же не следует говорить именно о ненависти к ним как неотъемлемой части византийского мироощущения. Если внимательно присмотреться к словам Хониата или Евстафия Солунского, можно заметить, что они с порицанием относятся к антизападным настроениям «черни».
Следует полагать, что они не были одиноки и разделяли мнения довольно большого числа образованных ромеев, видящих много пользы в союзе с Западом и с грустью констатировавших неудачу своих чаяний. Иллюстрацией этого может послужить описание даже самого черного дня в жизни самого Никиты Хониата (взятие Константинополя 13 апреля 1204 года), спасшегося благодаря одному из своих друзей-латинян [372].
Тем не менее большая часть ромеев продолжала считать их варварами. Признавая за каждым народом право жить по собственным законам, жители Империи всячески противились вмешательству чужих традиций. Об этом ярко свидетельствует даже более поздний, чем описываемый период, эпизод, когда Михаил Палеолог в ответ на предложение митрополита Фоки Филадельфийского согласиться ради подтверждения истинности своих слов на испытание железом сказал: «Если бы я был варвар и в варварских обычаях воспитан и таким варварским законам научен, то я по варварскому обычаю понес бы и наказание. А так как я римлянин и происхожу от римлян, то по римским законам и письменным установленным пусть меня и судят!» [373]
С другой стороны, латиняне отвечали ромеям презрением. «В царствование Богом любимого Мануила, — как писал Вильгельм Тирский, — латинский народ нашел у него должную оценку своей верности и доблести. Император пренебрегал своими маленькими греками как народом дряблым и изнеженным, и, будучи сам великодушен и необычайно храбр, он самые свои важные дела доверял только латинянам, справедливо рассчитывая на их преданность и мощь» [374].
Презрение у латинян вызывала и откровенная слабость преемников династии Комнинов — Исаака и Алексия Ангелов. На протяжении менее чем двадцати лет они не сумели из-за провалов внутренней политики достичь каких бы то ни было военных успехов.
Исходя из всего этого, было крайне маловероятно распространение западного военного мышления на широкие слои византийского общества. Такие мысли, как и раньше, могли проводиться лишь отдельными представителями военных и высших интеллектуальных кругов. Остальные же ромеи в XII веке, как ранее при Ираклии, императорах-исаврийцах и Никифоре II Фоке, продолжали смотреть на войну как на необходимое, но все же далекое от христианского совершенства дело.
Еще одним важным фактором, отнюдь не способствовавшим развитию идей священной войны, стало размывание представлений об особом статусе ромейской державы. Даже в период больших потрясений VII-VIII веков византийцы верили, что их страна остается единственным по-настоящему христианским государством, окруженным варварским морем. Несмотря на то что часть соседей были уже просвещены светом истинной веры, их христианство не воспринималось ромеями как равное себе.
Теперь же жители Константинополя и других городов империи стали осознавать, что латиняне вовсе не такие варвары, как представлялось раньше. Даже если им не хватает культурного развития, по искренности веры они не только не уступали, но порой и превосходили многих византийцев.
Иногда чисто политические разногласия приводили западных правителей к конфликтам с императорами ромеев, которым приходилось искать союзников среди мусульман. Соответственно, было довольно сложно объяснить священность войны василевса и его иноверных союзников против других христиан.
Последний аспект сакрализации военных действий, который необходимо рассмотреть в этом разделе, это уже неоднократно звучавший ранее вопрос о сакрализации фигуры императора, на этот раз в приложении к эпохе Комнинов: разделяли ли они какие-либо элементы иконоборческой модели «священного вождя». Ответ на этот вопрос будет совсем неоднозначным.
Алексей Комнин, приводя в порядок дела государства, обратил свое внимание и на положение Церкви. Усилилась борьба с еретическими движениями. В частности, особым преследованиям подвергались павликиане и богомилы, глава которых был приговорен к смерти и сожжен.
Надо признать, что представления Алексия о роли Церкви в обществе были в значительной степени утилитарными. Нуждаясь в концентрации всех сил государства в тяжелом периоде начала своего правления и войны с норманнами, зимой 1081—1082 годов он реквизировал часть церковной собственности для нужд войска. Против этого решительно протестовала часть клира, во главе с Львом Халкидонским, но уступила в силу понимания чрезвычайности момента и обещания императора вернуть ценности после завершения войны.
Понимая важность Церкви для народа и будучи сам достаточно религиозным человеком, Алексий поддерживал монастыри и церкви. Однако при этом он достаточно энергично искоренял попытки клира, а особенно епископата, вести независимую политику. Особенно это коснулось патриарха. В частности, ему не разрешалось вершить суд и вмешиваться в экономическую жизнь императорских монастырей, среди которых центральное положение занимал Афон, чья самостоятельность подтверждалась рядом хрисовулов.
Также была крайне неоднозначной политика Константинополя в отношении региональных духовных центров. Особенно напряженно дело обстояло в Болгарии, где архиепископ Феофилакт, грек по происхождению и культурным пристрастиям, решительно протестовал против притеснений властей, о чем свидетельствует его многочисленная переписка.
На фоне слабости центральной власти в середине XI века эти действия, разумеется, выглядят довольно жестким насилием. Однако они вполне соответствуют логике церковно-государственных отношений более ранних эпох. Если же их сравнить с действиями императоров-иконоборцев, то они выглядят достаточно мягкими.
Следует подчеркнуть: в уставшем от анархии и чехарды в управлении страной обществе политика Алексея Комнина встретила достаточно сторонников. Поддержали его даже некоторые клирики, вроде Евстафия Солунского, видевшие в них необходимые меры для наведения порядка.
Кроме того, своего рода «красную черту» император не преступал — он не пытался навязать Церкви свои богословские предпочтения (возможно, за неимением таковых), а также не считал себя выше канонических правил нравственности. Даже вмешательство Мануила в решения собора 1180 года, по известному определению «О боге Мухаммада», все-таки не несут той степени остроты, которая была проявлена в эпоху иконоборческих гонений.
Все это позволяет утверждать, что основную суть иконоборческой модели — представление о верховенстве василевса над Церковью, — Комнины не поддерживали. Утилитарность их взгляда на клир больше соответствовала Юстиниановской модели строгого разделения полномочий духовенства и светской власти, нежели иконоборческому стремлению представить императора духовным лидером империи.
Разумеется, концепт священной войны мог бы способствовать повышению престижа правителей, однако проводимые Комнинами реформы (в том числе в церковных делах) не были столь радикальны, чтобы нуждаться в дополнительном подтверждении военными победами.
Завершая эту главу, следует еще раз сформулировать основной ее вывод: в эпоху Комнинов Византия, несмотря на многочисленные примеры западного влияния, так и не восприняла католическую концепцию священной войны. Те элементы сакрализации военных действий, которые все же могут быть найдены в литературе этой эпохи, отражали лишь частные мысли их авторов, но не позицию широких слоев общества.