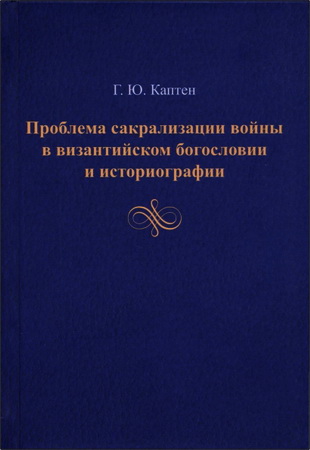в отличие, например, от Filioque или папской супрематии, латиняне и не требовали от православных принятия подобных тезисов.
Как отмечает Н.Г. Пашкин, политика византийцев начала XV века была достаточно четко выражена в приписываемых Мануилу II словах: «Мы точно знаем, какой страх испытывают нечестивые перед тем, что мы сможем договориться и объединиться с франками, ведь они понимают, что если это случится, то громадный урон понесут они от западных христиан. Поэтому трудись во имя унии с латинянами, ибо именно так ты сможешь внушать страх нечестивым, но остерегайся на самом деле заключить ее, так как не вижу я, чтобы наши [подданные] готовы были объединяться с латинянами» [385].
Таким образом, перспектива Унии должна была лишь сдерживать агрессивность турок, максимум — вытеснить их за Босфор, но не добиться полного сокрушения. Именно эта концепция стратегического сдерживания и исключала ведение Византией священной войны в ее западном понимании как повторении Первого крестового похода.
Примечательно, что и на Западе общая антиосманская кампания также воспринималась многими в первую очередь как средство преодоления сотрясающих Запад междоусобиц. «Не менее важно и то, что осознание миротворческого потенциала византийского фактора в какой-то степени присутствовало и на самом Западе. В этом византийцы подходили под интеграционную струю в европейской политике, которая пыталась реализоваться через империю и конциляризм. Под этим углом зрения, очевидно, и следует рассматривать пробудившийся интерес к византийцам как носителям имперской идеологии… Можно сделать вывод, что на Западе решение вопроса о греках рассматривалось в общем русле усилий по религиозной и политической консолидации Европы, как своего рода предпосылка к этому» [386].
Подводя итог сказанному выше: и Византия, и Запад стремились к решению внутриевропейских неурядиц, обе стороны видели в Унии важнейшее средство к достижению этих целей, хотя и серьезно разошлись в понимании ее принципов. Однако обе стороны преследовали лишь ограниченные военные цели и по разным причинам были не готовы вести классическую священную войну с неверными. Проблематичным было и достижение единства по вопросу, какую именно модель устройства Церкви — западную или восточную — и какой именно вариант вероучения считать правильными.
Поэтому все произошедшие с 1438 года события были вполне закономерными. Даже если бы на Ферраро-Флорентийском соборе состоялось бы действительное объединение христианства, больших военных успехов ожидать бы все равно не пришлось.
Интересно, что османы находились в начале XV века в подобной позиции — их потенциал серьезно ограничивали внутренние усобицы и угроза из Центральной Азии. Однако они сумели собрать и возглавить силы суннитского ислама, в том числе и с помощью идей священной войны. Итогом этого стало появление очень сильной державы, которая смогла не только разбить с большим трудом собранный восточно-европейскими католиками крестовый поход в битве под Варной в 1444 году и еще через девять лет захватить Константинополь, но и создать серьезнейшую угрозу большей части Европы. Лишь спустя почти сто лет путем неимоверных усилий их удалось остановить под Веной и, еще через несколько десятилетий, сокрушить в морской битве у Лепанто.
Последним всплеском мотивов священной войны (причем с обеих сторон) становятся события, связанные с осадой и штурмом Константинополя в 1453 году. Фактически это последняя в истории попытка совместного противостояния исламу со стороны единого христианства [387], а не отдельных конфессий [388], и едва ли не самая громкая победа ислама в конце Средневековья.
В самом конце XIV и начале XV века Византийская империя сократилась до столицы, Мореи и нескольких островов Эгейского моря. В таких условиях вопрос потери Константинополя был вопросом времени и воли османского султана. Неслучайно за это время город перенес несколько осад, но по стечению счастливых обстоятельств они оказывались неудачными.
Оставалось надеяться лишь на помощь Бога, что прекрасно выразил еще Иоанн VII, отвечая посланцам Баязида I, требовавшим весной 1402 года сдать столицу: «Скажите своему господину, что мы слабы, но уповаем на Бога, который может сделать нас сильными, а сильнейших низвергнуть с их престолов. Пусть ваш господин поступает, как хочет» [389].
Попытка Мурада II в 1422 году также не увенчалась успехом, что было воспринято греками как явное чудо. Иоанн (Ласкарь) Канан, повествуя о явлении Богородицы на городских стенах, делает чрезвычайно важные для нашего исследования замечания об участии в отражении штурма горожан, вдохновленных помощью свыше: «Римляне, хотя и весьма утомленные, прыгали от радости и счастья. Они хлопали в ладоши и посылали особые благодарности Богу… Они [горожане] выводили друг друга из укрытий, ибо те, кто дрогнул сердцем или побежал, изменились, став храбрыми и благородными воинами, которые презирали как удары, так и жуткие раны, и, уповая на Святую Деву Марию, вооружились они мечами и камнями и обрушились на безбожных грабителей, дабы прогнать их, как дым прогоняет пчелиный рой. И вышли они… с оружием, которое имели, иные с голыми руками, прочие с дубинами и мечами. Они привязывали веревки к блюдам, с которых вкушали пищу, или к крышкам бочек, делая себе щиты. Иные шли на бой даже и без всего этого, но сражались храбро и с отвагою, пусть и вооруженные лишь камнями…» [390].
Из земных же средств оставалось лишь просить о помощи Запад, ради чего Иоанн VIII и пошел на заключение Унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе, но латиняне вовсе не спешили на помощь некогда великой империи, слишком занятые разрешением собственных проблем. Именно поэтому на зов Константина Драгаса не откликнулось ни одно европейское государство, кроме, собственно, самого Рима. Фактически дело защиты Константинополя легло на плечи 5000 греков и 2000 итальянских добровольцев, которым противостояла 100-130 тысячная армия султана.
Религиозный элемент, несомненно, постоянно имел место в византийско-турецкой политике, так, узнав о смерти Мурада, находившийся в Трапезунде Франдзис сообщает: «В феврале… умер султан Мурад. И я не слышал об этом в Ивирии, а когда прибыл в Трапезунд, василевс… сказал мне о смерти султана и о том, что господином стал его сын и что он многое воздал василевсу и подтвердил мирный договор, который этот дом заключил с его отцом. И услышав это, я онемел и опечалился так, будто он сообщил мне о смерти моих самых близких. И немного спустя опомнившись, я сказал: “Государь мой, это не радостное известие, а весьма печальное”. И он говорит: “Как же это?” И я сказал: “Потому что тот был стар и попытка выступить против Константинополя была им уже совершена, и больше ничего такого он предпринимать не собирался, но желал лишь мира и спокойствия. Этот же, который теперь стал господином, — молод и с детства враг христиан, и он