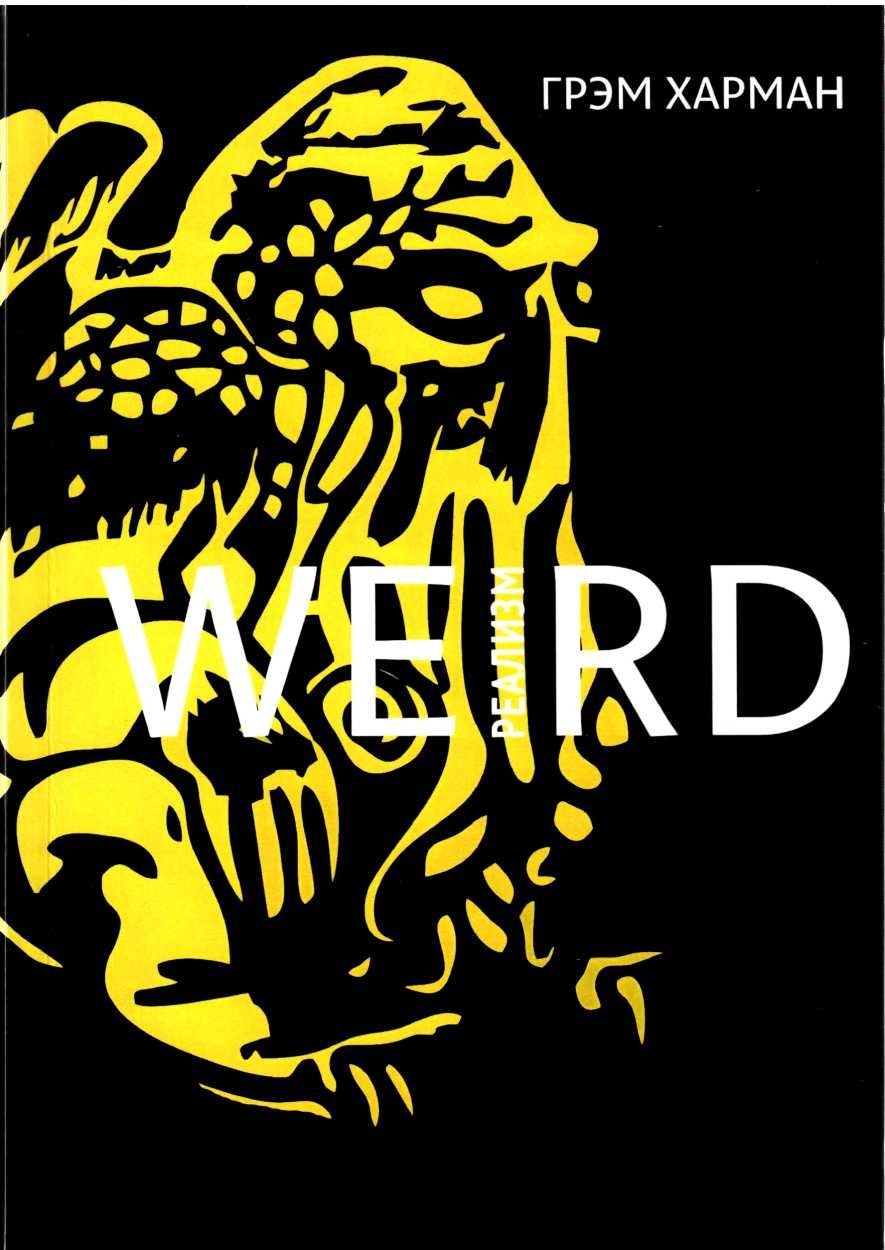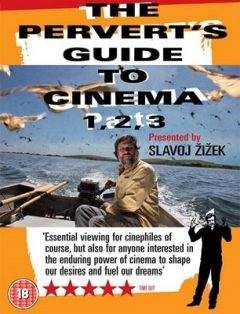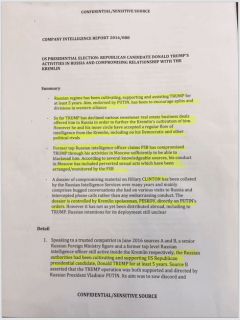конкретный элемент не может играть роль первоначала, поскольку все разные физические элементы должны совместно появиться из некоего более глубокого корня. Для Анаксимандра таким глубоким корнем было
apeiron: слово, обычно остающееся без перевода на английский язык, но означающее нечто вроде бесформенной, лишенной образа, не имеющей границ массы, из которой уже возникает нечто более конкретное. Как полагал Анаксимандр, по прошествии миллионов лет все противоположности взаимоуничтожатся и космос вернется в состояние бесформенного, нейтрального
apeiron. Эта идея позже вдохновила Маркса, когда он писал в Йене свою докторскую диссертацию. Многие мыслители-досократики предложили свои теории об устройстве реальности: Пифагор, Эмпедокл, Гераклит, Парменид, Анаксагор, Демокрит и т. п. Несмотря на разнообразие их теорий, все они склонялись к тому, чтобы назвать основой мира один или несколько базовых элементов или же согласиться с тем, что бесформенное
apeiron есть лучший способ объяснения всего наблюдаемого нами разнообразия вещей.
Итак, захочет ли кто-то из досократиков назвать основой мира самый базовый элемент (или элементы) или же предпочтет вместо этого ту или иную версию теории apeiron, всех их объединяет одна вещь, а именно: все их теории подрывают (undermine) обычные повседневные объекты. Никто из них не думает, что стулья и лошади обладают той же степенью реальности, что и избранные ими предельные основания; большинство объектов слишком поверхностны, чтобы быть настоящими. Используя терминологию данной книги, можно сказать, что вина досократиков заключена в «меньшизме». Кроме того, все они рассматривают избранную ими предельную вещь как вечную или, по крайней мере, неуничтожаемую, что оставалось типичным предрассудком греческой философии, пока Аристотель, наконец, не допустил существование уничтожаемых субстанций. Настоящая, однако, проблема подрыва (undermining) заключена в том, что он не может объяснить явление, названное нами эмерджентностью. Если вы, подобно Фалесу Милетскому, думаете, что все состоит из воды, то едва ли стоит полагать, будто газонокосилка или Голландская Ост-Индская компания останутся с течением времени одинаковыми, поскольку эти более крупные объекты будут всего лишь поверхностными эффектами глубинных движений воды. Тот же самый аргумент работает, если вы, подобно Демокриту с Левкиппом, думаете, что все состоит из атомов (буквально: «неделимых»).
Теперь должно быть понятно, что досократики неявно опирались на все четыре отвергаемые нами представления: физикализм, меньшизм, антификционализм и буквализм. Другими словами, они придерживались тех же взглядов, которые также лежат в основе современных попыток сформулировать «теорию всего» в физике. И это не случайно, поскольку досократики, конечно, были physikoi, первыми представителями западного естествознания. Но, на мой взгляд, — а это, по общему признанию, мнение меньшинства, — они не были первыми философами. Эту честь я оставляю для Сократа по причинам, которые вскоре озвучу. Существование этих ранних мыслителей позволяет философам иногда хвастаться тем, что философия была родительницей, а наука — ее детищем. Однако я уже сказал, что досократики занимались подрывом, то есть естествознание всегда было «подрывным» предприятием. Следовательно, нам нужно обратить вспять привычное утверждение и сказать, что западная наука впервые появилась вместе с досократиками, а западная философия возникла позже, когда Сократ открыл, что подрыв не есть подходящий способ выявления природы добродетели, справедливости, дружбы или чего-либо еще. Ибо то, чего ищет Сократ, — это не вид знания, поскольку его интересует не то, из чего состоят добродетель, справедливость и дружба, как и не то, что они делают, хотя и об этом часто забывают. Еще раз: изначальный смысл греческого слова philosophia — не знание и не мудрость, но любовь к мудрости, которой невозможно когда-либо окончательно достичь.
Надрыв в истории философии
В Новое время (modern [37] period) подрыв продолжает сохранять свое центральное значение для естественных наук, однако как философский метод он теряет свою популярность. Причина этого кроется в том, что западная философия заинтересована уже не столько обнаружить предельную субстанцию, из которой все состоит, сколько раскрыть, на какую часть знания стоит опереться, чтобы достичь наивысшего уровня достоверности. Это значит, что философия Нового времени (modern philosophy) больше всего озабочена тем, что приходит к человеческому сознанию самым непосредственным образом, а не тем, что глубже всего сокрыто под покровом мира явлений. Одним из следствий этого выступает то, что вместо того, чтобы считать индивидуальные объекты слишком поверхностными для истины, философия Нового времени полагает их слишком глубокими. Этот достаточно сильно отличающийся способ рассмотрения вещей нуждается в собственном названии, и в противоположность технике подрыва, основанной досократиками, я изобрел термин «надрыв» [38]. Возьмем Рене Декарта, которого обычно считают первым западным философом Нового времени (хотя иногда звучали аргументы и в пользу более ранних фигур вроде Николая Кузанского, сэра Фрэнсиса Бэкона и даже легендарного эссеиста Мишеля де Монтеня) [39]. Для Декарта в мире существуют три разновидности субстанции: res extensa (материальная субстанция), res cogitans (мыслящая субстанция) и Бог (единственная бесконечная субстанция). За возможным исключением Бога эти субстанции не являются какими-то скрытыми вещами, и, в принципе, они могут прекрасно быть познаны в математизированной форме. Физическая материя больше не имеет оккультных или скрытых качеств, но обладает лишь размером, формой, положением и направлением движения. Декарт ликвидировал, или «надорвал», скрытые «субстанциальные формы» средневековой философии, означавшие не те формы, что мы видим, когда смотрим на вещи, но те, что действуют в их сердце независимо от того, видим мы их или нет. Это превращает Декарта в революционную фигуру также и в истории науки, поскольку он провозгласил конец аристотелевской субстанции в физике и помог поставить современную науку на более математизированную и менее метафизическую основу. В «мыслящей субстанции» Декарта также нет ничего загадочного, так как, приложив некоторое количество усилий, я могу заглянуть в свой разум, ясно и отчетливо восприняв разворачивающиеся там мысли. Для Декарта и мир, и Я прозрачны и познаваемы. Мир необходимо переделать согласно образу нашего о нем знания: такова наиболее характерная черта модернизма во всех областях. У последующих философов Нового времени эта тенденция становится еще более отчетливой. Экстремальный мыслитель-идеалист Джордж Беркли (1685–1753) утверждает, что самостоятельных вещей не существует вообще, поскольку все сущее существует лишь в качестве образа для чьего-либо сознания, божественного или нашего собственного [40]. Совсем недавно известные философы Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) и Бруно Латур (р. 1947) выдвинули аргументы, что сущность — это не что иное, как ее отношения либо эффекты, так что любое представление о скрывающемся за ними независимом объекте абсурдно [41]. Американские прагматисты, такие как Уильям Джеймс (1842–1910) и Чарльз Сандерс Пирс (1839–1914) — чья фамилия произносится «Перс», а не «Пирс», — выступают со сходной линией аргументации, утверждающей, что вещь реальна лишь в той степени, в какой она отличается