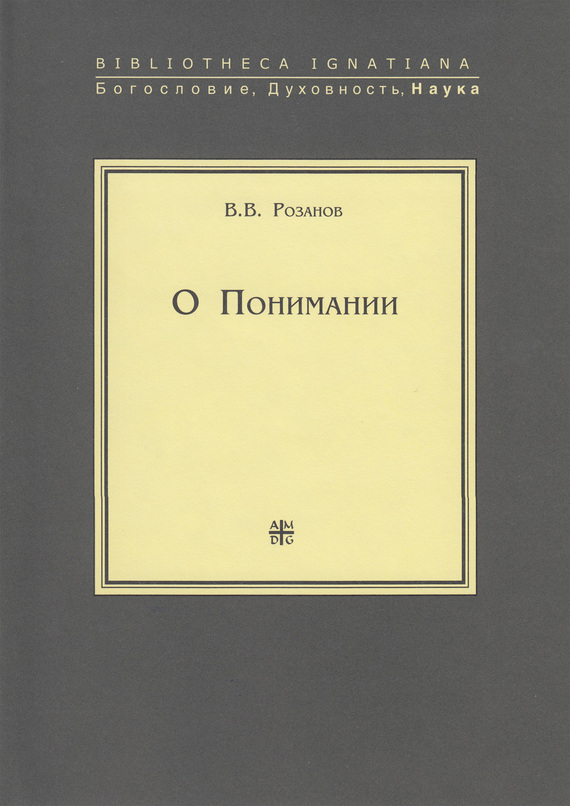и объясним его, если скажем, что, забывая горести, они не испытывали в этот миг и радости, но, как бы освободившись от своей бренной оболочки, испытывали то беспечальное состояние, в котором жили их прекрасные боги, эти совершеннейшие из людей. Это было временное освобождение от всего, привнесенного жизнью, и возвращение к чистой, первозданной природе своей. И сказанное объясняет также, почему с падением античного мира, с эрою христианства, с которым так много почувствовало человечество и в котором так много пережило оно, искусство стало по преимуществу живописью. Но здесь мы должны перейти к другому роду искусства, которое наравне с живописью и даже еще более, чем она, стало господствующею выразительницею внутреннего мира человека. Это музыка.
В музыке форма, исходящая из духа, есть не пространственное очертание, но временное, и потому именно то, что входит в эту форму со стороны природы, есть не вещество, но явление вещества – звук. Элементы этой особенной формы не сосуществуют друг с другом, но следуют друг за другом и поэтому не действуют на зрение как образ, но как тон – на слух.
Насколько отлична природа музыки от природы образных искусств, настолько же отлично то, что выражает она, от того, что выражают они. В образе, будет ли он состоять из линий, красок или мрамора, всегда есть нечто запечатленное и ставшее неподвижным, как неподвижны линии, краски и мрамор, из которых состоит он. В нем всегда выражается состояние духа – первозданной природы его в скульптуре, чувства с созерцательным оттенком в живописи, настроения в архитектуре. Только в музыке, где очертания преемственны, а не одновременны, где формы движутся, а не пребывают, выражается жизнь духа – то, что между состояниями, что выходит из них и в них же разрешается. И так как дух есть по преимуществу жизнь и все явления в нем совершаются во времени, то музыка есть по преимуществу выражение духа.
Отсюда происходит то, что музыка полнее прочих искусств, ближе человеку, чем они, и творчество в ней обходится для него дороже, нежели творчество в их области. Созерцательность присуща всем образным искусствам, и спокойствие есть естественное состояние художника. Напротив, в музыке отражается поток чувств, и беспокойство духа присуще композитору. Творчество в архитектуре, живописи и скульптуре есть наслаждение ни с чем не сравнимое, творчество в музыке есть нередко страдание, однако же такое, которое композитор не променяет ни на какие радости. Музыка ближе человеку, чем прочие искусства, потому что созерцательные состояния не часты, не каждому знакомы, и в них есть радость; а то, в чем мы находим отзвук на больные стороны нашей души, дороже нам и родственнее, чем то, что служит отражением нашей радости. Наконец, музыка полнее других искусств, потому что может выразить все чувства, тогда как они – только некоторые. Напр., ощущение тревоги, колебания, неуверенности не может быть выражено ни в каком образе и легко выражается в звуках. Но главное, что делает музыку способною к полноте выражения, это то, что ей, как преемственному очертанию, доступно выражение преемственно раскрывающегося чувства. В ней композитор и передает, и возбуждает в слушающем и зарождение чувства, и его рост, и то, во что оно разрешается. Так, напр., в живописи в отдельности могут быть выражены и грусть, и радость. Но как грусть разрешается в радость или как радость постепенно переходит в грусть, выразить это она бессильна, а музыка может.
Поэзия, мы сказали ранее, есть присоединение к внешнему, лежащему в природе, формы духа, в которой сочетались и пространственные очертания, и временные. Прибавим к этому, что тогда как другие искусства пользуются немыми формами, каковы звук, линия, тень, вещество, которые сами по себе ничего не выражают и ничего не говорят душе человека и, только известным образом соединенные, получают эту удивительную способность, – поэзия пользуется как оформливаемым материалом – как живопись красками или скульптура мрамором – словами, из которых каждое в отдельности уже имеет смысл и понятно. Соединяя эти слова своею пространственною и временною формою, поэзия творит новое, чего не было ни в одном из соединенных слов и что, следовательно, принадлежит ей исключительно, как особому виду творчества. Совершенно так, как разум, соединяя другим образом те же слова, получает новое, в них не заключенное – выведенную истину. В обоих случаях происходит одно и то же, только из различных источников, над различным содержанием, с различным результатом.
То, что входит в поэзию музыкальным элементом, то есть как временное очертание, есть ритм для стихов и язык (слог) для прозы. Независимо от смысла тех слов, которые заключены в ритме и в языке, и этот язык и этот ритм имеют свой смысл. И если мы захотим через сходное объяснить его, то найдем равное ему в смысле и в содержании музыки. Ритм и язык служат как бы общею основою, на которой отдельные слова ткут тот узор, который мы называем предметом или содержанием поэтического произведения; в них тон, который разрабатывается и точнее выражается через то, что говорится в этом тоне. Поэтому между тем, что говорится в поэтическом произведении, или сюжетом, и между тем, как говорится в нем, или ритмом и языком, должно быть строгое соответствие, иначе получится разлад, дисгармония в целом. Это закон тожества между явным смыслом содержания и между тайным смыслом формы в поэзии, который объясняет и требует, чтобы эти два элемента одного и того же произведения взаимно усиливали друг друга, а не ослабляли через разногласие. Приведем несколько примеров, которые яснее покажут, что у формы поэтического произведения независимо от сюжета есть свое содержание, только общее выраженное, чем в сюжете, и что оба эти содержания должны совпадать в каждом отдельном произведении. Если бы события времен Алексея Михайловича и характер этого государя описывались языком Тацита или если б история римских цезарей рассказывалась языком, который необходим в рассказе о царствовании Алексея Михайловича, то в обоих случаях получилось бы нечто смешное, и как бы точно на несоответствующем языке ни были переданы факты этих различных эпох, и та и другая история была бы несправедлива, просто неверна. Как в литературных произведениях, в них дух, выраженный в языке, находился бы в противоречии с содержанием, которое выражено в точном смысле слов; и поэтому именно, как в истории, в них факты являлись бы единичными проявлениями общего, с ними не схожего. Все вместе было бы также неправдоподобно, как развитие пальмы из семени дуба или звука из красоты, так же несообразно и бессмысленно, как плач в весело смеющемся или смех в