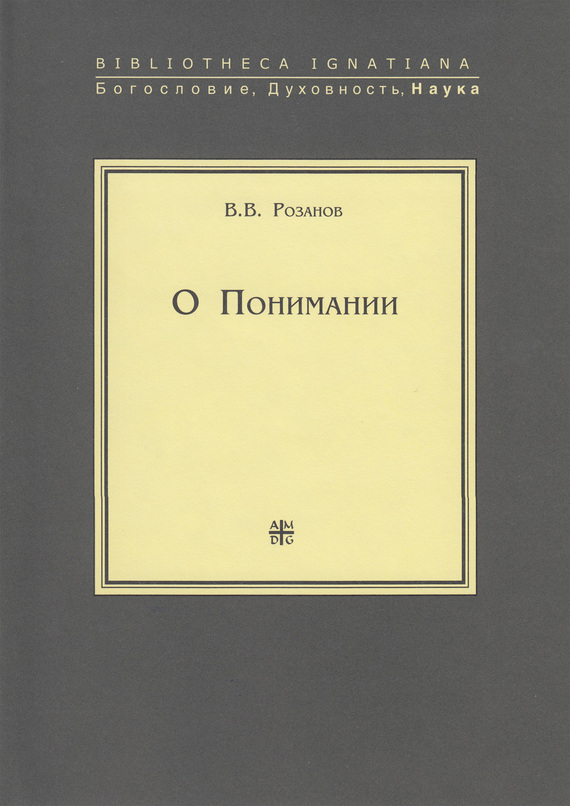как придающей скульптурность нарисованному образу. Однако есть в живописи нечто, чего нет и не может быть выражено ни в линиях, ни в контурах и что способны они выразить только приспособляясь к плоскости, лежа в ней; есть нечто, в чем живопись превосходит все прочие искусства. Это мир бесчисленных прекрасных чувств, с оттенком созерцательным, в которых глубоко выражается личность человека со всеми своими бесконечными изгибами; чувств, которые перестали быть волнениями и перешли в настроения, однако же не настолько общие, слишком личные, чтобы они каким бы то ни было образом могли быть выражены в архитектуре. Вот почему в эпоху Возрождения, когда, с одной стороны, так глубоко был взволнован человеческий дух и личность, в противоположность массе, еще впервые и так прекрасно выразилась в истории, а с другой стороны, когда и вековое предыдущее настроение, сказавшееся в готике, и знакомство с древностью, которой искусство также служило выражением настроения, придало этому возбужденному и личному духу мягкость и созерцательность – в эту именно эпоху возникла и быстро потухла несравненная живопись, единственная в истории, которая ничем не была подготовлена и которую никто не в силах был продолжать. Наконец, вне линейных очертаний и вне перспективы в живописи есть еще одно, что, как мы думаем, присуще ей именно как образному выражению чувств при помощи плоскости. Это
тень и
краски. С их пособием геометрическая плоскость, всюду неизменная и тожественная, становится не та же здесь и не та же в другом месте. Тень и краски – это то, что, лежа в плоскости, придает ей разнообразие, и через это делают ее – именно ее, а уже не линию и контур – способною выражать мир разнообразных чувств. При этом то, что способны выразить тень и краски, невыразимо ни линиями, ни скульптурными формами вследствие одной их особенности. И те и другие по самой сущности своей не могут быть неопределенны. Линия или есть – и тогда она определенна, или она неясна – и тогда ее нет; точно так же скульптурная форма всегда твердо выражена, или же ее нет вовсе как формы: она становится безобразною. Словом, граница, предел присущи линии и объему по самой природе их. Поэтому и в зодчестве и в ваянии могут быть выражены чувства только определенные, т. е. закончившиеся. Напротив, особенность тени и красок состоит в том, что они могут проступать и переливаться, то исчезая почти совершенно, то ярко играя, то едва мерцая и при этом незаметно переходя одна в другую; так что нельзя сказать, где начинается одно очертание и где кончается другое. Оставаясь пространственною формою, они таким образом чужды предела, границы. Вот почему в живописи может гораздо удобнее, полнее и справедливее отразиться внутренний мир человека, нежели во всех других образных искусствах. И в особенности все, что есть неуловимого, бесконечного в человеческой душе, все, что или, только зарождаясь, не сделалось еще резко очерченным, или, замирая, утратило уже грубые формы, может найти в этом роде искусства несравненное выражение.
В скульптуре или ваянии пространственная форма, исходящая из духа, является под формою объема как очертания трех измерений.
Средствами она беднее, чем живопись, потому что может изображать только человека, тогда как последняя – и то, что окружает человека, в чем отражается его дух (бытовые картины) и что отражается в его духе (природа). Но, как бы вознаграждая собою отсутствие разнообразия, это одно средство так могущественно, что то немногое и неразнообразное, что выражает скульптура, выражается ею с силою и совершенством, какие недоступны другим видам искусства. Архитектура отражает в себе настроение человека как бы символически, в линиях, которые, будучи известным образом соединены между собою, получают непостижимую тайную способность выражать человека и выраженное передавать другому. В живописи образ человека, как бы хорошо ни был он нарисован, есть все-таки лишь подобие, копия человека – как бы тень его, но не он сам. Только в одной скульптуре является сам человек, – тот, которого то символически, то через уподобления бессильно стараются выразить все роды искусства. И потому-то она есть совершеннейший род искусства; в ней – достигнутое, тогда как другие искусства – только достигающее.
Я склонен думать, что по самой природе своей, строго очертанной, скульптура хотя и может выражать настроения человека и чувства его, однако не должна, так как не способна сделать этого полно, совершенно и справедливо, как это может сделать живопись. Предмет ее – человек неизменный, человек ранее, чем узнал страдания, чем почувствовал радость; ранее, чем испытал все то горькое, что мучит его в жизни, и все то сладкое, что утоляет его мучения. Поэтому страдающее лицо, равно как радостное, ошибка в скульптуре и уместно в живописи; тогда как спокойное лицо, не отражающее в себе ни горя, ни радости, ошибка в живописи и уместно в скульптуре. В последней может быть выражена и должна быть выражаема природа человека так, как она есть, полно и совершенно; живопись выражает состояния человека, рисует не того, кто есть, но таким, каким бывает тот, кто есть. В нарисованном образе мы читаем все пробегающие чувства и мысли и переживаем все отразившиеся в его чертах прошлые страдания и радости. В изваянном образе мы видим то, что способно испытать все радости и горести, одинаково и те, которые есть в нарисованном образе, и всякие другие. Мы видим в нем не того или другого человека, но просто человека, не к тому или другому способного, но ко всему способного, не в тот или другой миг, но таким, каким как будто бы он должен был пребыть вечно. И то, что изображает живопись, есть только отклонение от этого вечного, как бы недостаток, о котором нужно сожалеть, неправильность, которую нужно изгладить. Выражаясь аллегорически, чтобы точнее передать свою мысль, мы сказали бы, что в скульптуре человек и отражает и отражается до падения, или еще не создав своего падения; живопись – это искусство падшего человека, обреченного на труд и на страдания и уже почувствовавшего их. Все сказанное объясняет, почему именно в античном мире, где природа человеческая развилась так полно и так совершенно, без недостатков и без уклонений, в этом мире, где человечество узнало свое детство и юность, не искаженную страданием и не просветленную им, – искусство было по преимуществу скульптурою. Сохранилось известие [22], что когда греки приходили и смотрели на изображение Зевса Олимпийского, сделанное Фидиасом, – это высшее, до чего достигла в истории скульптура, – то они забывали свои горести и печали. Быть может, мы не исказим этого предания