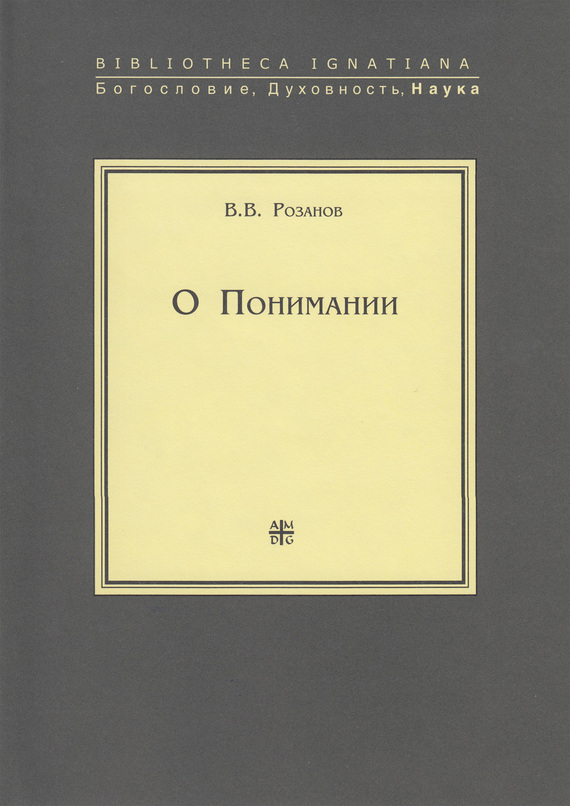по гармонии в построении, по красоте. Так, Платон и Спиноза всегда неудержимо влекли к себе человеческую душу, хотя на Аристотеля и Бэкона можно было надежнее положиться. Со своей стороны искусство нередко окрашивается идеями понимания, – впрочем, замечательно, что никогда идеями науки, но только одной философии. Напр., «Фауст» проникнут идеями философского пантеизма. Эти идеи проводятся в поэзии через образы характеров, которые проникнуты ими, как это делали, напр., Гёте, Шиллер, Байрон, или путем аллегории, как это сделано, напр., в «Божественной Комедии» Дантэ. В скульптуре же, архитектуре и живописи философские идеи выражаются при помощи символов (напр., символика в готической архитектуре).
VIII. Происхождение искусства таково же, как и происхождение науки, как и происхождение всех творимых человеком форм жизни. Оно бессознательно, невольно и необходимо. Подобно тому как истина происходит вследствие того, что разуму присуща форма понимания, способная и стремящаяся соединиться с понимаемым, так точно искусство является потому, что одному из чувств присуща форма красоты, которая способна и стремится к соединению с чем-либо внешним, дабы, оформив его в прекрасную вещь, воплотиться в нем. Чувство красоты, как и все подобное, есть одна из определенных потенций духа, которая так же и потому же становится реальною в создаваемом искусстве, как и почему семя растения становится полным растением. Отсюда объясняется то страдание, которое испытывается человеком, когда что-либо внешнее ему мешает воплотить образы красоты, возникшие в нем, и та радость, которую он испытывает, воплощая их. Наш поэт, сказавший, что и на пустынном острове он написал бы то же, что написал живя среди людей, определил происхождение искусства и совершенно, и полно, так что ни прибавить к этому что-либо, ни отнять из него – нельзя. Он только не назвал и не объяснил факт, который указал, сознав его в себе. Тот истинный поэт, художник и композитор, который не может ни сам себя, ни его другие сдержать от творчества в поэзии, в музыке или в живописи; как тот один истинный мыслитель и творец науки, который ни сам в себе, ни в нем другие не может ни подавить, ни рассеять процесса мышления. В первом постоянно и повсюду возникают образы, слагаются и разлагаются, так что где бы он ни был и что бы он ни делал, он истинно делает только прекрасные образы, все же прочее – как бы во сне и со страданием. Второй, среди какого бы шума и тревоги он ни жил, в нем постоянно возникают одни мысли; так что все, что он делает, он делает как бы машинально, не давая себе отчета и также со страданием, и только сознательно и с наслаждением – обдумывает.
Отсюда объясняется, что ни тот не есть истинный художник и поэт, который во внешних впечатлениях ищет возбуждения своей творческой деятельности; ни тот не есть истинный делатель на ниве науки, который, перечитывая множество книг, способен легко усваивать их содержание. Первый вне себя ищет образов красоты, чтобы описать или срисовать их, и, следовательно, сам пуст от них; второй питается чужими мыслями, потому что не имеет своих. И именно поэтому-то, вследствие внутренней пустоты обоих, и первый срисовывает и описывает много и хорошо, и второй усваивает много и точно. Чем совершеннее пустота внутреннего мира, тем совершеннее воспринимается мир внешний, так что наилучше срисовывающий из них есть наименее художник и наиболее изучивший – наименее мыслитель. Уединение и наружная бездеятельность есть все, что нужно для истинного поэта и для истинного мыслителя, и ищет или не ищет он их, по этому можно узнать, то ли он, за что выдает себя, или же обманывается и обманывает.
IX. Здесь же лежит объяснение и истинной цели искусства. Оно не имеет своим назначением ничего, кроме создания прекрасных вещей как соединений внутренней, присущей духу формы красоты с предметами внешнего мира, которые чужды ей. И если искусство, кроме того что творит прекрасные вещи, еще через них достигает и многого другого, то это следствие, но не цель. Следствия эти в особенности присущи осложненным формам искусства, и поэтому они-то именно часто несправедливо понимаются и от них несправедливое требуется. Осложняющая, прившедшая в искусство форма обыкновенно принимается за существенную, основную, а эта основная рассматривается как посредствующая, с помощью которой можно усилить то, что достигается прившедшею формою в другой области жизни – в той, где она главная. Так живопись в Средние века была осложнена религиозною идеею, и религиозность стала считаться главным в ней, а красота – второстепенным. Так в XVII и в XIX вв. политическая идея осложнила собою поэзию, войдя в нее второю формою; и эта политическая идея, которая как основная, господствующая форма уже воплощена была в государстве, многими и в поэзии принята была за главную. Все это так же ложно, как ложно было бы думать, что выросшее из семени дерево и случайно давшее тень человеку для того именно и вырастало, чтобы дать ему эту тень; так что, находись он в другом месте, – и оно выросло бы там, а не здесь; или, нуждайся он в чем другом, а не в тени – из него выросло бы уже не это дерево, а что-нибудь другое.
Некогда в нашей литературе было сказано умное слово, значительное и содержательное: что как бы хорошо яблоко ни было нарисовано, настоящее яблоко, живое, лучше нарисованного. И хотя слово это было сказано натуралистом и в осуждение чистого искусства, однако – такова странная судьба многих слов – именно в нем чудно соединено все, что незыблемо и вечно осуждает натурализм в искусстве и незыблемо же, вечно утверждает значение за одним чистым искусством. Действительно, настоящее яблоко лучше нарисованного, и поэтому не для чего рисовать его. Природа и жизнь, как бы совершенно они ни были воспроизведены, вернее и прекраснее воспроизведенного. Поэтому искусство, которое ставит для себя задачею изображение (отражение) действительности, т. е. натуральное, ненужно, так как плохо и с трудом достигает того, что уже без труда и хорошо достигнуто (созерцание действительного). Нужно же одно то искусство, в котором к изображенной природе и жизни присоединено то, чего в них нет и потому не может быть созерцаемо через наблюдение действительности, но что есть в духе художника и что он передает через изображение природы и жизни. Это мир образов красоты, чистых или осложненных, которые в беспримесной форме невидимы и не передаваемы, но которые можно передать и сделать видимыми, если воплотить во что-либо действительное. Это воплощение красоты как формы духа в вещах внешнего мира, которые, преобразуясь, становятся от этого прекрасными,