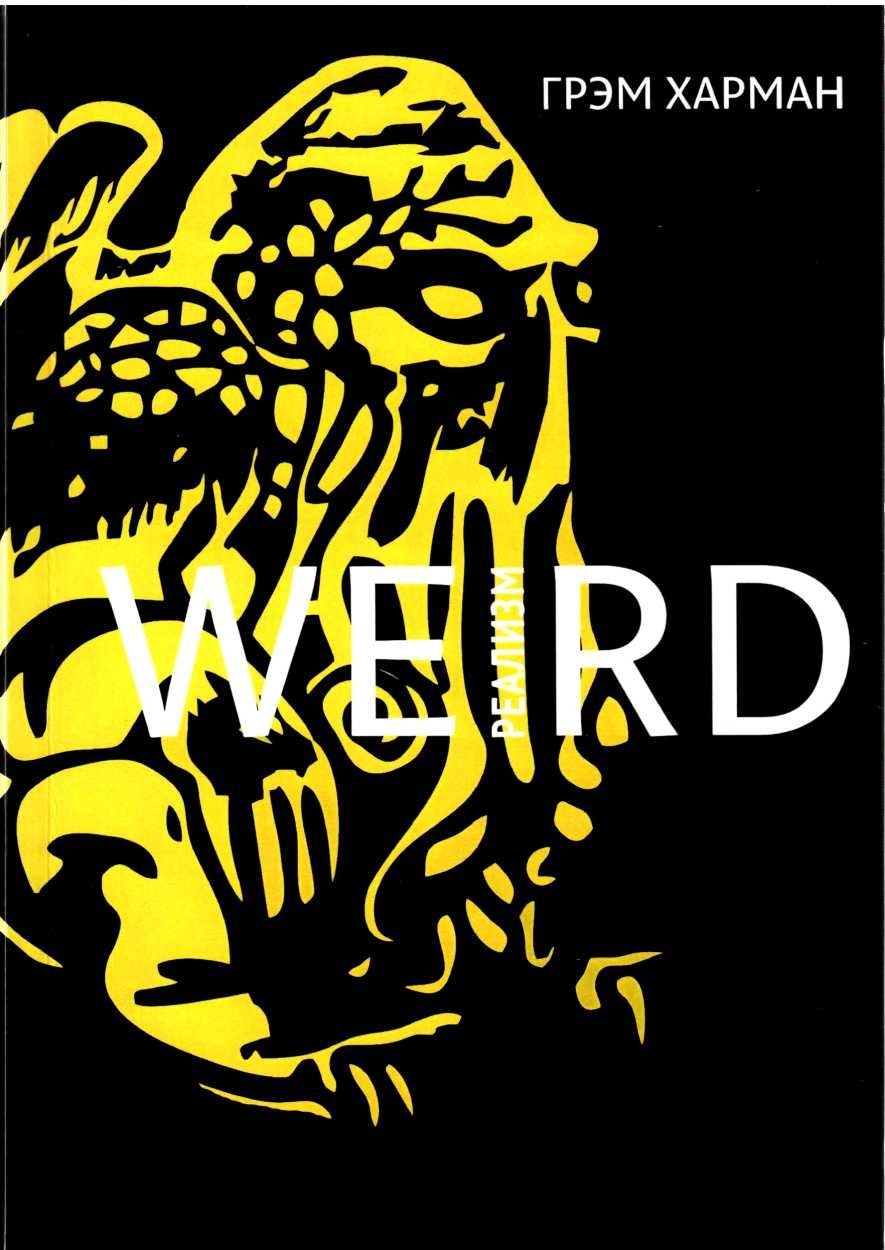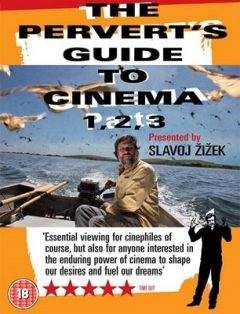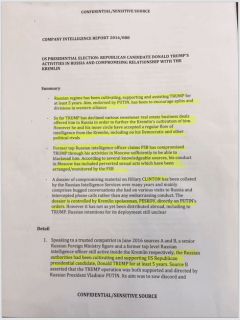противоречивая конструкция единства «трех лиц в одном Божественном естестве» может быть не только возможна, но и отчетливо постигнута. А вот для Джонстона подобные аналогии неуместны, принимая во внимание его настойчивое требование использовать только категории, понятия, предикаты или свойства при объяснении любой темы. Короче говоря, метафору стоило бы стереть с интеллектуальной карты Джонстона, однако вскоре мы увидим, что ООО наделяет ее высоким философским статусом.
Существует множество других примеров того, как непрямая аллюзия, намек или недосказанность оказываются куда сильнее прямого доступа к истине. К примеру, общепризнано, что едва одетое тело куда более эротически заряжено, чем обнаженное: именно поэтому производители нижнего белья зарабатывают целые состояния, а у колоний нудистов куда больше общего с политическими декларациями, чем с амурными интригами. То же самое относится к любовным запискам и письмам, которые начинают становиться неуклюжими и даже скучными в случае своей излишней откровенности. Угрозы почти всегда более действенны, оставаясь туманными, как в знаменитой фразе Марлона Брандо из «Крестного отца»: «Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Почему бы не заменить эту угрозу ее буквальным эквивалентом? «Если он не даст моему другу главную роль в фильме, я отрублю голову его скаковой лошади и кину ее ему на кровать, когда он будет спать. Проснувшись, он будет невероятно шокирован». Хотя воплощение этой угрозы в фильме оказывается откровенно гротескным и ужасающим, оно остается менее зловещим, чем расплывчатое заявление о «предложении, от которого он не сможет отказаться». В преддверии первой войны в Персидском заливе в 1991 году велись ни к чему не обязывающие разговоры об использовании армией Саддама Хусейна химического оружия против любых собирающихся вторгнуться американских войск. В ответ Дик Чейни (бывший тогда министром обороны), как сообщают, предупредил Хусейна, что если это случится, то «Соединенные Штаты отреагируют быстро, решительно и так, что Ираку потребуются столетия на восстановление». Какой бы жестокой и бесчеловечной ни была эта угроза, она, безусловно, страшнее именно в такой расплывчатой форме, а не изложенная в подробностях.
С другой стороны, мы видим, что юмор также почти всегда разрушается под воздействием буквализма. Рассмотрим следующую широко распространенную загадку:
В: Сколько нужно сюрреалистов, чтобы поменять лампочку?
О: Рыба.
Будучи довольно забавной в такой форме, она совершенно рушится как юмореска, если человек вынужден объяснять ее буквальное значение, как это часто бывает с детьми, когда они слушают взрослые разговоры. Только представьте, как вы пытаетесь объяснить ее смысл ребенку: «Художники-сюрреалисты помещают объекты в шокирующе неожиданные контексты. И здесь они сделали это снова. Разве может быть что-либо неуместней „рыбы“ в ответ на вопрос, сколько людей нужно, чтобы поменять лампочку? Как типично для сюрреалистов давать такой нелепый ответ!» Шутка здесь практически утрачена. Правда, в подобной буквализации иногда бывает заключена сама суть шутки, однако это исключение, которое только подтверждает правило, поскольку используют ее только для того, чтобы противопоставить широко распространенному ожиданию, будто шутки не могут быть буквальными. Например, популярная детская юмористическая книга из моего детства задавала вопрос: «Это кто такой большой, красный и ест камни?» Ответ, гласивший, что это «большой красный пожиратель камней» [58] был размещен под иллюстрацией, на которой был изображен фантастический зверь, соответствовавший именно этому описанию.
Но, пожалуй, самым ярким примером небуквальной формы познания служит метафора. На протяжении определенного времени уже известно, что не существует способа идеально перевести метафору в обыденное значение, подобно тому как не существует способа идеально изобразить нашу трехмерную планету на двухмерной карте. Литературный критик Клинт Брукс убедительно доказал невозможность определить точное буквальное значение стихотворения, а философ Макс Блэк проделал ту же работу с индивидуальными метафорами [59].
Метафора
Еще бо́льшую важность для ООО представляет эссе о метафоре, написанное испанским философом Хосе Ортегой-и-Гассетом (1883–1955) [60]. Ортегу не так широко читают в англоязычном мире, как раньше, возможно потому, что его часто помещают в одну группу с Жан-Полем Сартром и экзистенциалистами: интеллектуальным течением, доминировавшим после Второй мировой войны, престиж которого, однако, несколько упал после того, как в гору пошли Деррида, Фуко и прочие французские постмодернисты. Тем не менее Ортега оказал глубокое влияние на философию в испаноязычном мире, будучи потрясающим стилистом, неоднократно выдвигавшимся на Нобелевскую премию по литературе. Я полагаю, что его раннее эссе о метафоре, это самая важная вещь из когда-либо им написанных; и тем не менее самая нетипичная его работа. Начать с того, что Ортега сочинил ее в нежном для философа возрасте, в тридцать один год, задолго до своих зрелых произведений. Еще более важно, что философский дух этого текста довольно-таки противоположен духу всей остальной его карьеры. Самое, пожалуй, знаменитое высказывание Ортеги гласит: «Я есть „я“ и мои обстоятельства». Этим высказыванием он пытался встать в оппозицию идеализму нововременной европейской философии, полагающей мышление независимой субстанцией, отделенной или даже отчужденной от мира, указав на взаимодействие, существующее между миром и «Я». Противопоставив, однако, идеализму утверждение, что разум и мир всегда взаимозависимы, Ортега теряет всякую способность объяснить автономию вещей. Следовательно, он не может воспользоваться выгодами плоской онтологии, способной полагать, что и люди, и нелюди изначально находятся на одной общей основе. Таким образом, он случайно уступает странному модерному представлению, согласно которому наш относительно небольшой человеческий вид заслуживает того, чтобы полностью занять собой пятьдесят процентов онтологии. Однако эссе о метафоре, написанное в качестве предисловия к вышедшей в 1914 году книге стихов, поворачивает в противоположную сторону [61]. Здесь молодой Ортега предлагает нам забытый шедевр реалистической традиции в философии, где человеческие и нечеловеческие вещи рассматриваются не как взаимные корреляты, но как обладатели одинаково богатых независимых жизней [62].
Один из самых волнующих принципов этики Канта состоит в том, что мы никогда не должны относиться к людям — включая нас самих — просто как к средству, но всегда только как к цели [63]. Ортега не только напоминает нам об этом принципе, но и придает ему свежий онтологический оттенок. Он замечает, что мы можем расширить эту интуицию Канта, выведя ее далеко за границы этики. Кант, запретив использовать кого-либо лишь как средство достижения цели, при этом явно не видит ничего дурного в том, чтобы применять в таковом качестве нечеловеческие объекты. Сегодня есть те, кто готов оспорить и такую точку зрения: философ Альфонсо Лингис утверждает, что даже неодушевленные объекты нуждаются в особом, отвечающем им подходе, например этически неверно есть дорогой шоколад, запивая его «Кока-Колой», также неправильно слушать популярную музыку в наушниках в храме в Киото