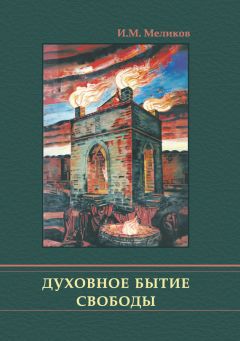церквями. Хайдеггер официально перестал считать себя верующим, хотя в его работах нетрудно обнаружить признаки тоски по священному. Их брак устоял, несмотря на эпизоды неверности с обеих сторон. Много лет спустя Герман Хайдеггер раскрыл тайну, которую услышал от матери задолго до этого: его настоящим отцом был не Мартин Хайдеггер, а врач, с которым у нее была любовная связь.
В первые годы учебы и преподавания Хайдеггера во Фрайбурге Гуссерль там еще не работал; как только он приехал в 1916 году, Хайдеггер начал искать подход к Гуссерлю. Сначала тот отвечал нечетко и формально. Затем, как это случалось со многими другими, он проникся симпатией к этому странному молодому человеку. К концу войны Гуссерль, как и Хайдеггер, стремился к «symphilosopheín [17]» — совместному философствованию, как любили говорить в их кругу.
В то время Гуссерль все еще глубоко скорбел о погибшем на войне сыне, а Хайдеггер был того же возраста, что и дети Гуссерля. (В отличие от них, он избежал фронта из-за слабого сердца и получил должность почтового цензора и помощника на метеостанции.) Присутствие молодого Хайдеггера оказало на Гуссерля необычайное влияние. «О, ваша юность — такая радость для меня», — писал он. Он проявил несвойственную для себя эмоциональность, добавив к одному письму три постскриптума, а затем отругал себя за то, что выглядит как старый болтун. Позже Гуссерль оглядывался назад и удивлялся тому, как позволил себе так увлечься, однако понять, почему это произошло, не так уж сложно. На его шестьдесят первом дне рождения в 1920 году Мальвина Гуссерль в шутку назвала Хайдеггера «феноменологическим ребенком». Хайдеггер с удовольствием играл роль приемного сына, иногда начиная свои письма словами «дорогой отеческий друг». Однажды он написал благодарственное письмо за гостеприимство Гуссерлей: «У меня поистине было чувство, что меня приняли как сына».
В 1924 году Гуссерль помог Хайдеггеру устроиться на работу в расположенный неподалеку Марбургский университет. Там он трудился в течение четырех лет. В 1928 году, в тридцать девять лет, он вернулся во Фрайбург, чтобы занять кафедру, освободившуюся после ухода Гуссерля на пенсию, — опять же при поддержке Гуссерля. Вернуться было облегчением: Хайдеггер никогда не был счастлив в Марбурге, он называл этот город «туманной дырой», хотя именно там началась его университетская карьера и именно там у него случился роман с его студенткой Ханной Арендт.
В годы учебы в Марбурге Эльфрида Хайдеггер на полученное наследство купила участок земли недалеко от шварцвальдской деревни Тодтнауберг, в двадцати девяти километрах от Фрайбурга, с видом на величественно расположенные подковой долины и деревню. Она спроектировала деревянную хижину, которая должна была быть построена на этом участке, вклинившись в склон холма. Это был подарок для мужа: семья часто ездила туда вместе, но Хайдеггер проводил много времени, работая в одиночестве. Пейзаж был еще живописнее, чем в его детстве, а бродить по здешним тропинкам в поисках сосредоточения можно было бесконечно. Тогда, как и сейчас, в этих местах часто катались лыжники и саночники, приезжали и пешие туристы, но по вечерам или вне туристического сезона здесь было тихо и спокойно — лишь высокие деревья смотрели на играющих между ними детей, словно чопорные взрослые. Когда Хайдеггер оставался там один, он катался на лыжах, гулял, разжигал костер, готовил простую еду, разговаривал с соседями-крестьянами и проводил долгие часы за письменным столом, где — как он писал Арендт в 1925 году — его сочинения приобретали особый ритм спокойствия, похожий на тот, который можно испытать, когда мерно колешь дрова.
Хайдеггер все чаще прибегал к образу крестьянина, даже работая в городе. Он стал носить специально сшитую версию народной шварцвальдской одежды: коричневый традиционный жилет с широкими лацканами и высоким воротом, дополненный штанами длиной до колена. Его студенты называли это «экзистенциальным» или «собственным» стилем; последний эпитет отсылал к одному из особенно любимых им слов. Они находили Хайдеггера забавным, хотя сам он шуток не понимал: его чувство юмора находилось где-то на грани между специфическим и несуществующим. Но все это было неважно: его одежда, его деревенский швабский акцент и его серьезное лицо только подчеркивали таинственность и загадочность. Его ученик Карл Левит рассказывал, что «непроницаемость» Хайдеггера завораживала аудиторию; слушатели никогда не могли понять, куда он клонит, и поэтому цеплялись за каждое слово. Ханс Йонас, учившийся и с Гуссерлем, и с Хайдеггером, заметил в более позднем радиоинтервью, что Хайдеггер из них двоих был более интересным. На вопрос почему он ответил, что в основном «из-за того, что его гораздо труднее было понять».
По словам Гадамера, фирменным стилем Хайдеггера было «поднимать захватывающий дух вихрем вопросов, который раздувался, пока, наконец, они не превращались в темные грозовые облака утверждений». Студентов ход мысли Хайдеггера буквально ошеломлял: в этом было нечто оккультное, поэтому ему придумали прозвище «волшебник из Мескирха». Однако тучи и молнии Хайдеггер сопровождал глубоким анализом классических философов и требовал предельной концентрации на тексте. Согласно воспоминаниям Ханны Арендт, Хайдеггер учил их думать, а думать для него означало «копать». Он докапывался до корней сущего, писала она, но вместо того, чтобы вытаскивать их на свет, он оставлял их, лишь намечая пути вопрошания о них — точно так же, как его любимые тропинки прокладывали путь через лес. Годы спустя не отличающийся почтением к авторитетам сатирический «Философский лексикон» Дэниела Деннета и Асбьерна Стеглих-Петерсена придумает шуточный термин «хайдеггер» и определит его как «громоздкое устройство для бурения толстых слоев вещества»: например, «тут так глубоко, что придется использовать хайдеггера».
Георг Пихт, слушавший лекции Хайдеггера восемнадцатилетним студентом, вспоминал о силе его мышления как о чем-то почти осязаемом. Она ощущалась, когда Хайдеггер входил в аудиторию, эта энергетика веяла опасностью. Его лекции были формой «мастерски поставленного» театра. Хайдеггер призывал своих студентов думать, но не обязательно отвечать. «Он считал, что говорить первую пришедшую в голову бездумную вещь, или, как это еще называют, “дискуссия”, — пустая болтовня». Он любил, чтобы студенты вели себя уважительно, но не пытались «подмазаться». Когда однажды студентка зачитывала вслух текст, сопровождавшийся комментарием самого Хайдеггера, он прервал ее: «Мы здесь не хайдеггерианствуем! Давайте сразу к делу».
Пихт предполагал, что отчасти эта хайдеггеровская грубость была защитной реакцией: он чувствовал угрозу, исходящую как от других, так и от самого себя. Вопрошание о бытии могло внезапно проложить путь в бездну собственной личности, а личность — это то, что должно было быть осмыслено. Однажды Пихт с ужасом осознал, каково это — быть Хайдеггером: «Каков он был? Он жил словно в грозовом пейзаже. Когда мы прогуливались в