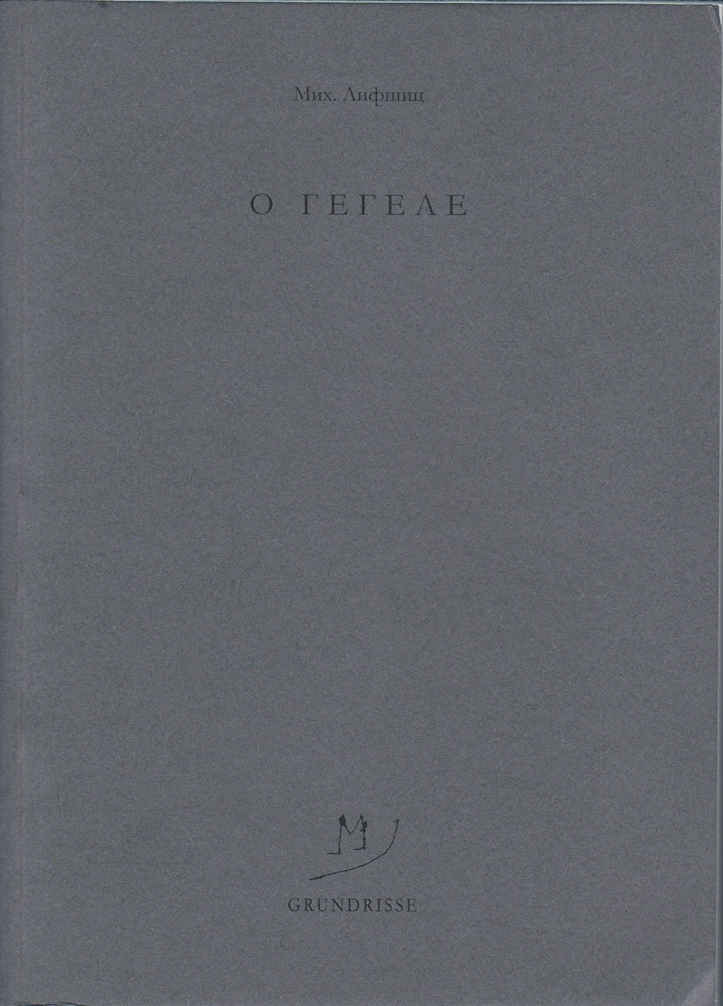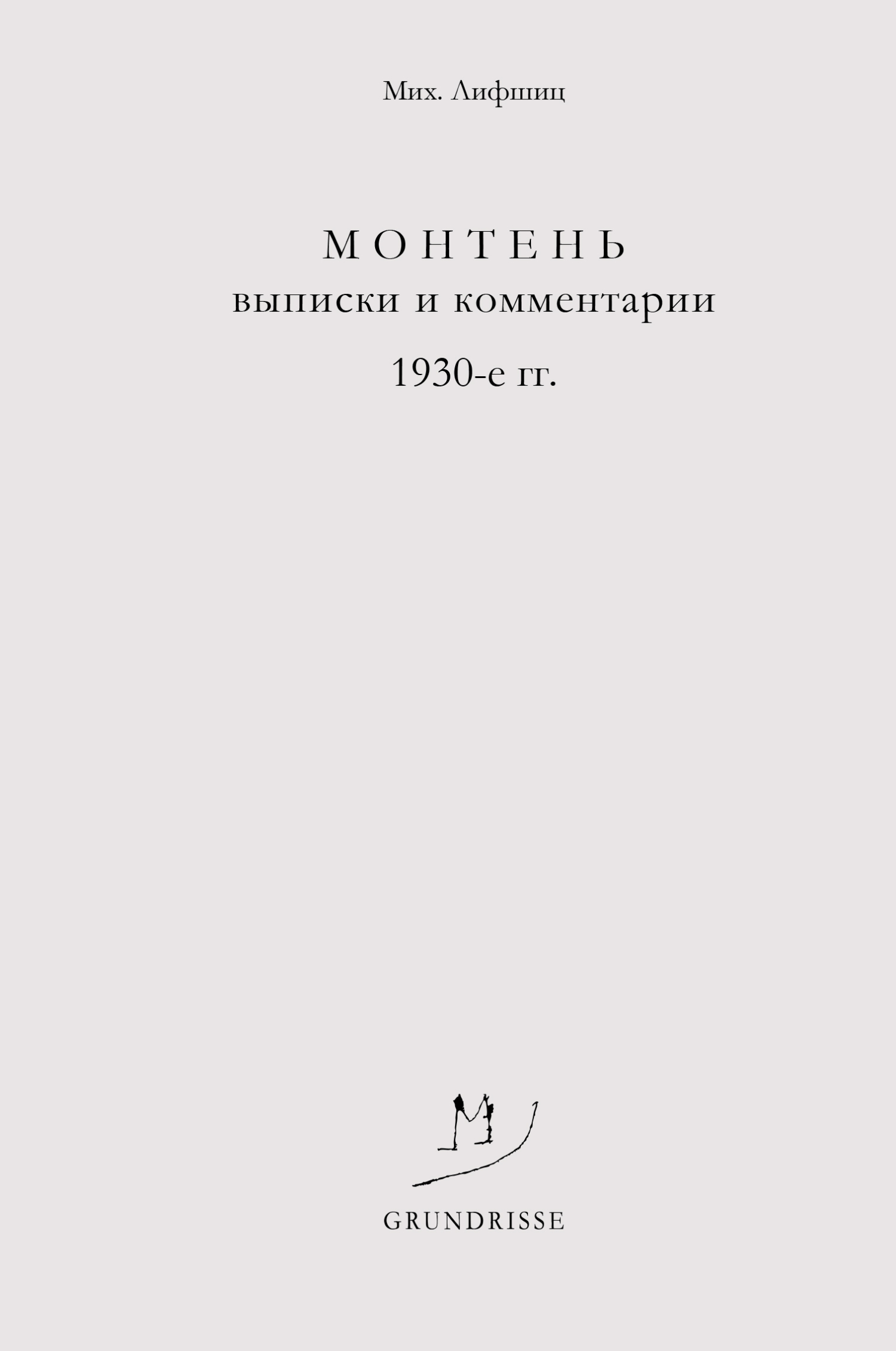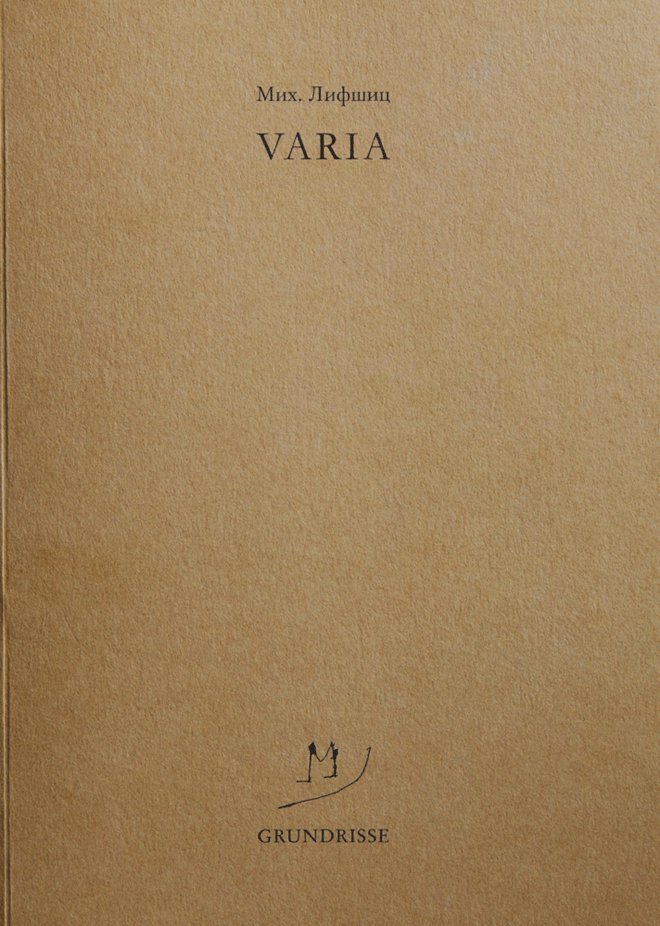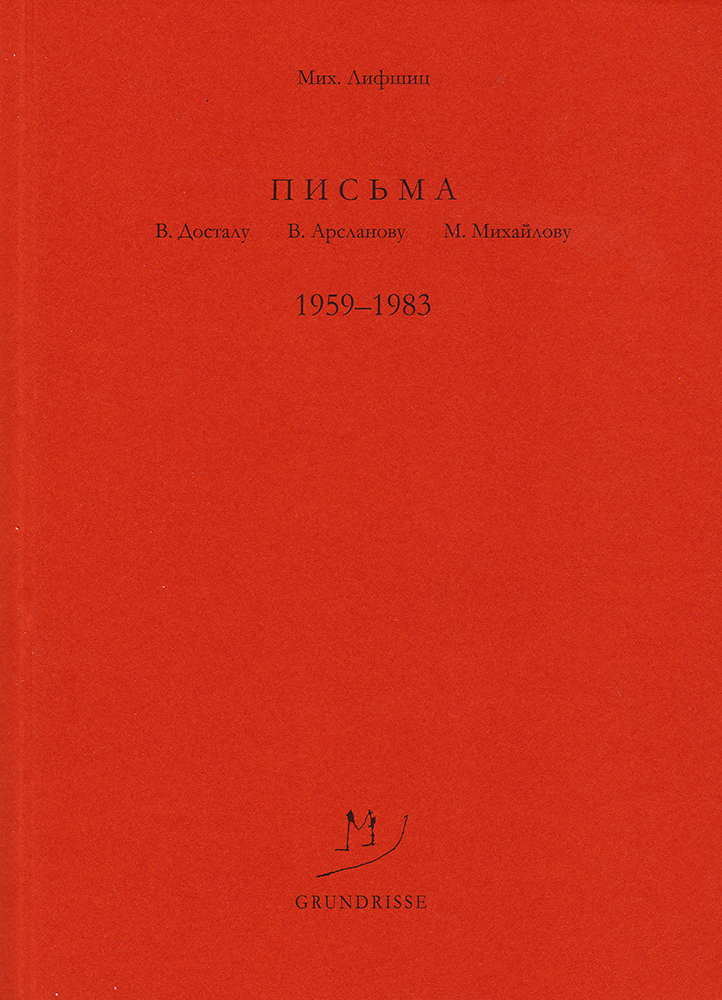А, господа консерваторы и либералы, говорит им «идеальная личность» истории, вы хотели создать себе внешний и внутренний комфорт за счёт большинства – так вот вам за это! Вы хотели отсрочить расплату – тем ужаснее она будет! Вы повторяете хорошие слова, чтобы обмануть необходимость реальных дел – и вы сами будете обмануты! Мёртвая скука и демонический протест против «сладкой жизни» – тоже месть несовершившихся перемен.
Разве это не значит, что общественному бытию присущи не только черты объективной необходимости, но и норма свободы? Существование этой сверхсилы целого рано или поздно чувствуют на себе все народы, классы и партии, которые хитростью и насилием удерживают за собой частные привилегии или отстаивают промежуточные, двусмысленные позиции. Гегелевская ирония событий обращает все их усилия в «обратный удар». Для Маркса и Энгельса история также – великая поэтесса, пишущая свои трагикомедии железом и кровью.
Горячее убеждение в том, что независимые от нашей воли коллективные силы общественного процесса не только запутывают людей в сложные узлы, но способны тем же путём открыть им выход из самой абсурдной ситуации, что все зигзаги и отступления истории своим диалектическим обратным движением ведут их в царство свободы, основанное на материальном базисе необходимости и горьком опыте самосознания, является неотделимой чертой исторического материализма. «Нет такого исторического бедствия, которое не искупалось бы прогрессом, – писал Энгельс перед лицом глубоких противоречий русской истории. – Пусть же свершится предназначенный жребий!» Досужие умы называют это убеждение «эсхатологией» или «верой в миллениум», но все их сомнительные параллели доказывают только, что люди начали мыслить диалектически задолго до того, как они пришли к сознательному пониманию диалектики.
Итак, сама по себе попытка найти субъективное начало в самой субстанции реального мира не ложна. Если сущность общественного бытия состоит только в том, что из произвольных актов людей складывается безразличная к требованиям их ума и сердца объективная сила, человек в самом деле бездомен и ему остаётся только роковая свобода в духе Ницше или в духе экзистенциализма. Никакая добрая воля не может обуздать кровавую и бескровную бессмыслицу действительной жизни, если сама действительность не идёт ей навстречу. Насколько это было доступно в его положении, Гегель исследовал диалектику наших идеалов и мира действительного, субъекта и объекта. Он показал, что иная действительность более логична, чем претензия самого разума, что иная необходимость более свободна, чем сама свобода в её исключительном, одностороннем выражении.
Мы можем узнать и найти себя только в другом – в том страшном и непокорном мире, который кажется таким чуждым нашему духу. Разум самих вещей определяет «великие революции» общественного мира, или нам не на что надеяться. С этой точки зрения Гегель был прав. Его идеализм заключается не в том, что он хотел выпрямить обратные силы истории, её кривые «обходные пути». Идеализм Гегеля в том, как он это делает. И здесь действительно между двумя типами диалектики есть жёсткая грань. Покажем это на примере господства и рабства.
Тот факт, что контуры общей постановки вопроса, столь важного для исторического материализма, прочерчены уже Гегелем, – не тайна, и Вернеру Бекеру, автору тенденциозного сочинения на эту тему, незачем было тратить столько сердитых слов. Согласно учению Гегеля, господствующий класс опускается в силу своего господства, то есть в силу того, что он перекладывает необходимость на плечи других, пользуясь ими, как говорящими орудиями между собой и вещью. Такая свобода тянет вниз, как самый тяжкий груз, ибо она расходится с её собственным бесконечным содержанием. Напротив, класс подчинённый, как материальный носитель более высокого самосознания, поднимается, ибо на его стороне труд, страдание, жизнь, а, следовательно, и сам его величество дух.
В чём завязка этой социальной драмы, которая всегда неотступно стояла перед умственным взором Гегеля? В том, что свобода не может быть привилегией, не может служить куском, вырванным из общего пирога. Если пружина натянута, она сделает своё дело. Автоматизм всеобщей отрицательности произносит над всякой ограниченной свободой как выражением узкого, конечного и, в этом смысле, материального бытия свой приговор. Человек может быть свободен только в другом человеке, пишет Гегель. «Я только тогда истинно свободен, если другой тоже свободен и признаётся мной свободным».
Гегель имел предшественников в демократической мысли XVIII века, но он показал всеобщую или, как теперь принято говорить, онтологическую природу этого отношения и тем подготовил такое понимание общественных антагонизмов, которое видит в них не слепое столкновение сил, не «острие против острия» (по терминологии современных китайских марксистов), а мучительное рождение объективной истины и нравственного закона в истории. Без этой основы было бы, разумеется, невозможно провозглашение исторической миссии пролетариата в качестве конечного смысла борьбы классов, известной и буржуазному мышлению.
То обстоятельство, что Гегель рассматривает общественную свободу как дело взаимного признания, то есть ставит её в зависимость от волевого акта, также можно прочесть материалистически. Понятие «признанного бытия» подробно развито им уже в йенской реальной философии 1805–1806 гг. Мы встречаем это понятие в сцене господина и раба «Феноменологии духа» и на вершине системы – в «Энциклопедии», «Философии права». Впрочем, и в «Капитале» Маркса товаровладельцы должны взаимно «признать» себя таковыми. Без этого «волевого отношения», отражающего отношение экономическое, рефлектирующее его, само товарное производство функционировать не может. Разница только в том, что отношения товаровладельцев суть отношения формального равенства, тогда как «акты воли», конституирующие право господина и бесправное положение раба, являются формальным признанием их неравенства.
Под именем «признанного бытия» у Гегеля выступает существенный факт исторической действительности. Свобода, которую человек находит в другом, является сначала в обратной, не соответствующей своему понятию форме, как шутливо-глубокомысленного стихотворения, обращённого философом к его пуделю (1798). Подчинение раба господину есть акт недобровольной воли, как это, впрочем, имеет место и в отношениях формально равных товаровладельцев. Ибо всё это – акты воли, несущие на себе печать необходимости. Здесь равенство, без которого не может быть подлинной свободы, развивается в форме неравенства. Однако эти неравные отношения, даже как отношения прямого господства и рабства, не сводятся к чистому насилию. Они взаимны. Всякое общественное подчинение предполагает покорность, отсутствие другого выхода, и в этом смысле Гегель прав, рассматривая господина и раба как распад единого самосознания на два противоположных полюса. Классовое отношение есть компромисс в пользу сильного, откуда рождается и государство.
Гегель идёт так далеко, что видит причину возвышения военного сословия в том, что подчинённое большинство, погружённое в интересы частной собственности и труда, завязло в этой трясине и потому уступает свободу, как публичное выражение общественности, особому слою людей, представляющих его собственное отчуждённое самосознание. Это, разумеется, близко к реальному процессу возникновения громадной, непропорционально