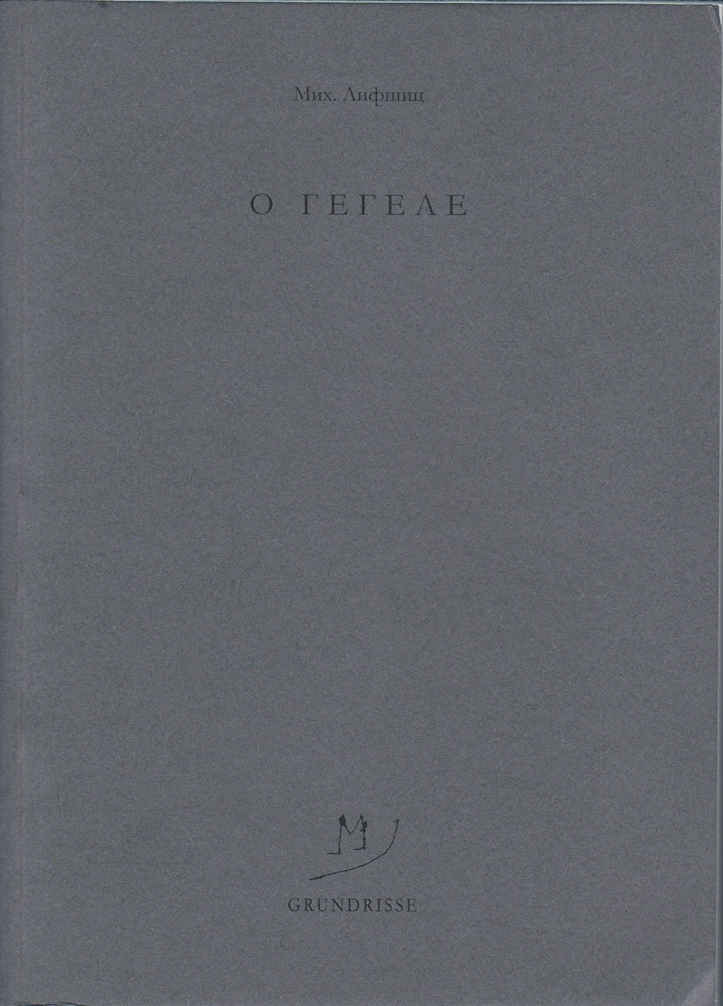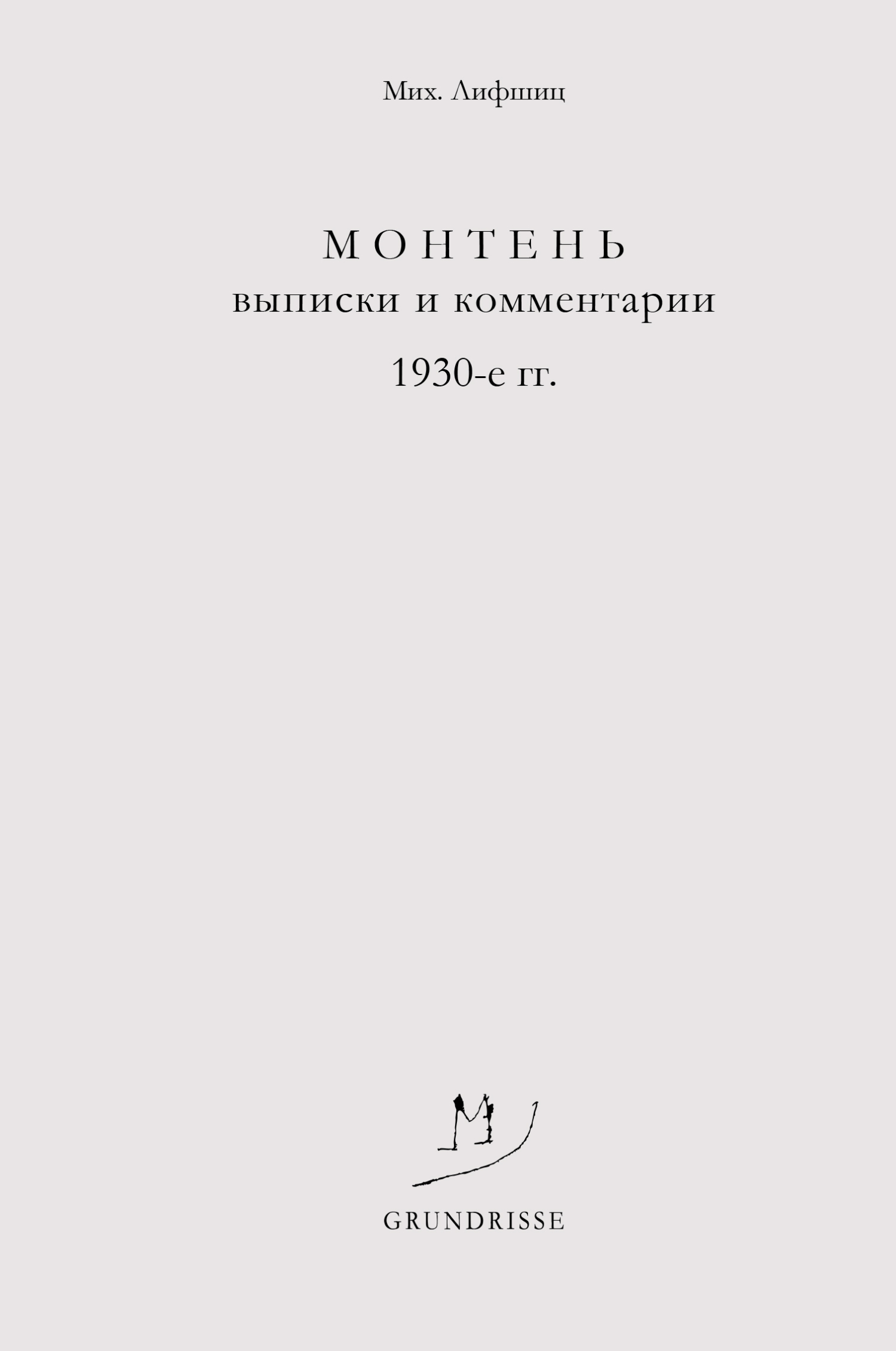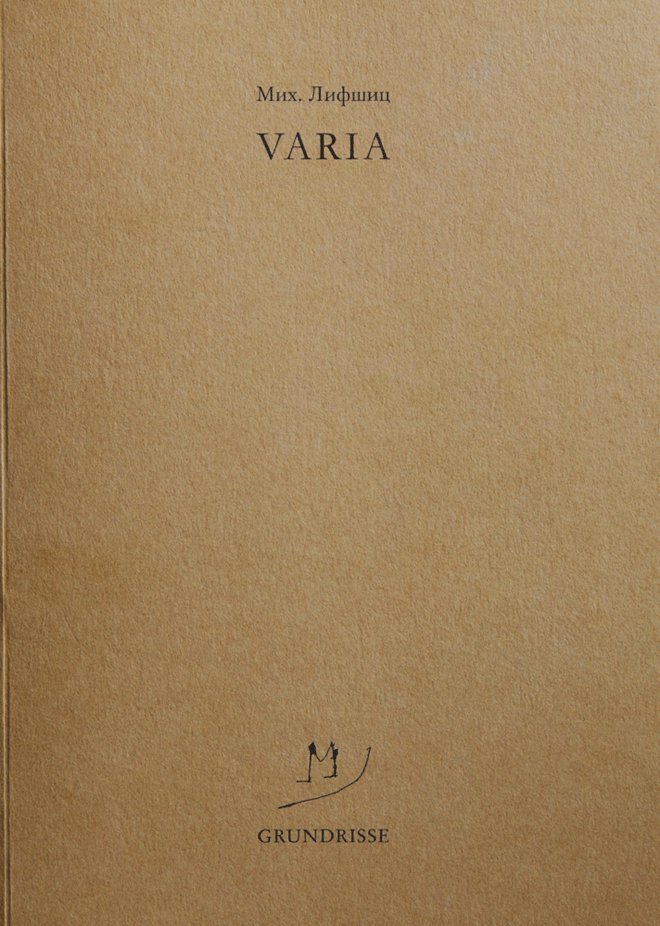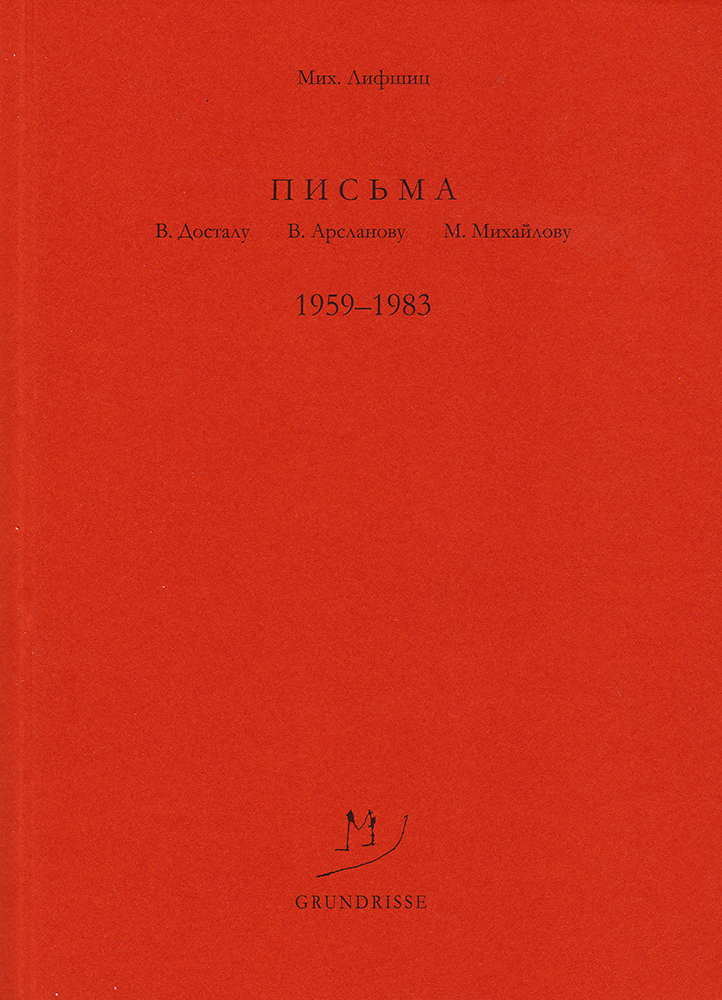и всего больше материализма и что ярче всего это противоречие выступает в главе об «Абсолютной идее». Трудно найти свидетельство более достоверное, ведь мысль Ленина, насыщенная конкретной реальностью, не прощала малейшей философской плесени.
Попробуем перевести на язык материализма – не грубого, не простого, не метафизического – некоторые фундаментальные понятия гегелевской философии, играющие роль скелета в его лекциях по эстетике. Нельзя ли, насколько это возможно, лишить их таинственного и чисто умозрительного характера посредством примеров, более доступных современному мышлению? Когда речь идёт о людях такого масштаба, как Гегель, следует всё же предположить, что в своих отвлечённых рассуждениях они имели в виду нечто реальное, жизненное и потому близко касающееся даже таких трезвых, умственно зрелых людей, как наши современники.
Краеугольным камнем философии искусства Гегеля является понятие истины. Красота есть истина, истина в форме созерцания, в образах наших чувств, в формах самой жизни. «Искусство призвано раскрывать истину в чувственной форме». Нам часто приходится читать и слышать, что такое понимание вопроса было уместно во времена классицизма и рационализма, а теперь давно уже устарело, поскольку из него будто следует, что искусство есть бесплатное приложение к науке – привлекательная форма, в которую художник или писатель облекает свои верные идеи, чтобы сделать более приятным горькое лекарство философии, политики и морали.
Забавно, что именно в этом плоском понимании истины Гегель упрекал эстетические теории XVII–XVIII вв., сохранившиеся в виде пережитка и в его время. Чтобы представить себе границу, оставленную позади классической немецкой философией (вслед за литературной революцией, связанной главным образом с именами Гёте и Шиллера), достаточно вспомнить дидактический тон романов той эпохи, когда искусство ещё должно было оправдывать своё существование служебной целью, внушением полезных истин.
В предисловии к «Молль Флендерс», одному из лучших реалистических произведений литературы XVIII в., Дефо оправдывал изображение преступного мира тем, что роман рисует неизбежность возмездия. Конечно, объективное содержание романа Дефо выходит далеко за пределы этой морали, но цель автора – дидактическая, и характерно, что в предисловии поучительность идеи ставится в один ряд с верностью изображения. В обоих случаях истина есть плод формально-технической деятельности субъекта, который пользуется средствами искусства для достижения поставленной цели.
Известно ещё со времён Аристотеля, что можно прекрасно изобразить самый низкий и совсем некрасивый предмет. Примерно в одно и то же время с появлением «Молль Флендерс» этот вид прекрасного был назван Хатчесоном «относительной красотой» в отличие от абсолютной красоты самого предмета (если она есть). Чем больше дефицит прекрасного в жизни, тем больше задача, стоящая перед искусством художника. Теперь дело уже не в том, что собой представляет объект изображения, а в том, как удалось субъекту осуществить свой замысел, то есть передать другим людям идею, выраженную им в образах реальности.
Что же такое сама идея? В данном случае это – субъективный концепт, истинность которого состоит в том, что он отвечает объекту, так же как изображение старика на полотне или бумаге отвечает старику реальному. Само по себе это понимание истины не ложно, хотя слишком абстрактно, и потому истина принимает здесь субъективно-формальный характер, а процесс овладения предметом становится делом техники, умения, «ноу-хау». Сказанное относится и к самой морали. Согласно Локку, она заключается в соблюдении закона наград и наказаний, вложенного провидением в конституцию природы.
Эта система взглядов была порождением общего развития европейской мысли, имевшего глубокие корни в социальной истории Нового времени и в сопровождавшем её быстром подъёме естественных наук. Разумеется, было бы парадоксом возложить вину за отчуждённый, стихийный ход буржуазной цивилизации на «инструментальный разум» естествознания, как это делают Хоркхаймер и Адорно, видящие фатальную неизбежность фашизма уже в первых шагах научно-технического мировоззрения. Скорее наоборот, нужно считать, что наука Нового времени, делая великое дело в борьбе с наследием схоластики, становится жертвой исторических условий, которые навязывают ей односторонний тип рассудочного, чисто количественного, механического и действительно «инструментального» взгляда на отношения субъекта к объекту.
Этот недостаток был искупительной вирой за громадные и благодетельные для человеческого общества успехи научного знания. Вместе с устранением теории внутренних или «реальных» качеств и форм, которые, согласно средневековому взгляду, должны были объяснить различие наших ощущений, вместе с необходимой, по крайней мере, на переходе к будущей диалектике природы заменой этих качеств и форм «первичными конкрециями» или «корпускулами», мир утратил для человека былую красочность, наивное единство субъекта и объекта. Картины мира менялись. Но особого рода объективность как идеал науки, исключающий всё родственное человеческому существу, идущее навстречу ему в природе, постоянно росла. С течением времени отрешённая объективность была перенесена также на мир общественный. И патриарх современной буржуазной социологии – Макс Вебер в своей мюнхенской лекции 1918 года («Наука как призвание») объявил, что истина и ценность окончательно разошлись друг с другом.
Таким образом, слово истина приобрело в научном обиходе то относительное значение, которое, согласно Хатчесону, имеет красота изображения, безразличного к тому, что изобразил на своём полотне художник. Если рассуждать последовательно, то для мастера объективная разница между красотой и безобразием вообще не существует. Так и понятие истины, с этой точки зрения, не может быть предикатом реально существующих вещей. Оно означает только мастерство ума. Виртуозность знания как «пособия нашего», по выражению Ленина, инструмента, посредством которого коллективный субъект науки создаёт представления, соответствующие объекту, и овладевает им.
Если спросить современного человека, так или иначе связанного с наукой и техникой, что такое истина, то в подавляющем большинстве случаев мы узнаем, что это вещее слово означает соответствие нашей мысли реальному положению вещей. Для более полного соответствия мысль, опирающаяся на факты, должна быть рационально обработана согласно определённым формальным правилам и «корректно» выражена, но всякая истина есть adaequatio intellectus et rei, то есть равенство наших представлений внешнему объекту. Такое определение истины возникло ещё в средние века на основании некоторых мест из Аристотеля, поясняющих, что истинное и ложное бывает только в человеческом уме, а не в самих вещах. Впрочем, у того же Аристотеля есть достаточно примеров другого применения понятия «истина».
Скажем ещё раз, что соответствие мысли внешнему объекту как определение этого понятия само по себе не ложно, а только ограничено одной из его сторон, не исчерпывая целого. Мало того, для всей обыденной жизни, включая и научно-технический труд, который всё более входит в обычную жизнь, такой взгляд на истину не только необходим, но, может быть, даже более нужен, чем всякий другой. Именно этому взгляду мы обязаны изгнанием из нашей картины природы фантастических образов наивной натурфилософии и заменой их теми представлениями, которые лежат