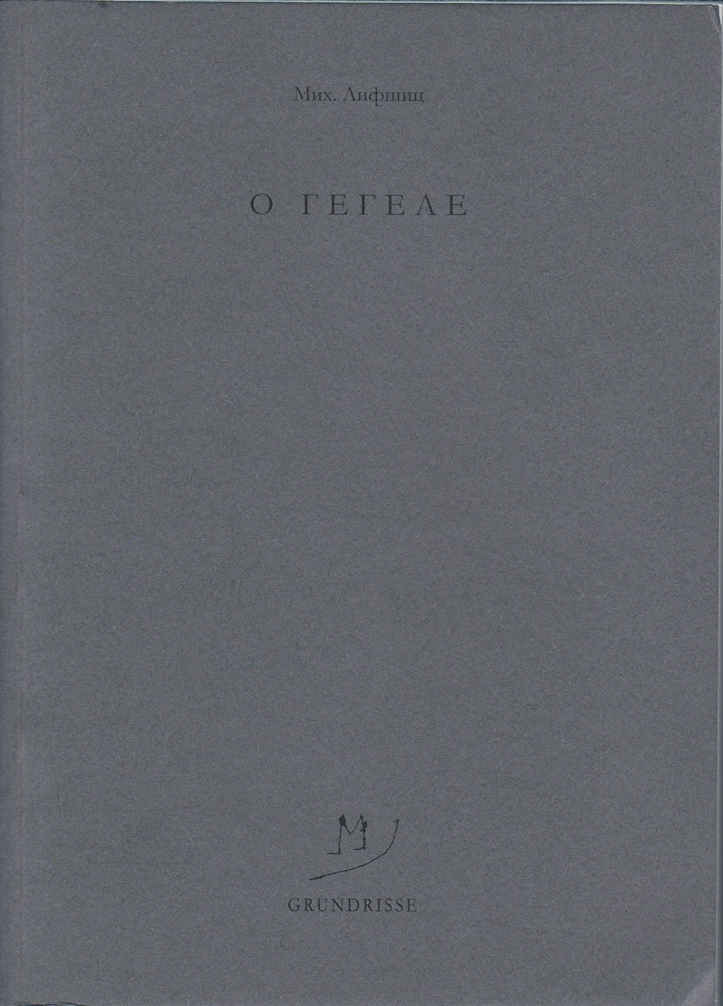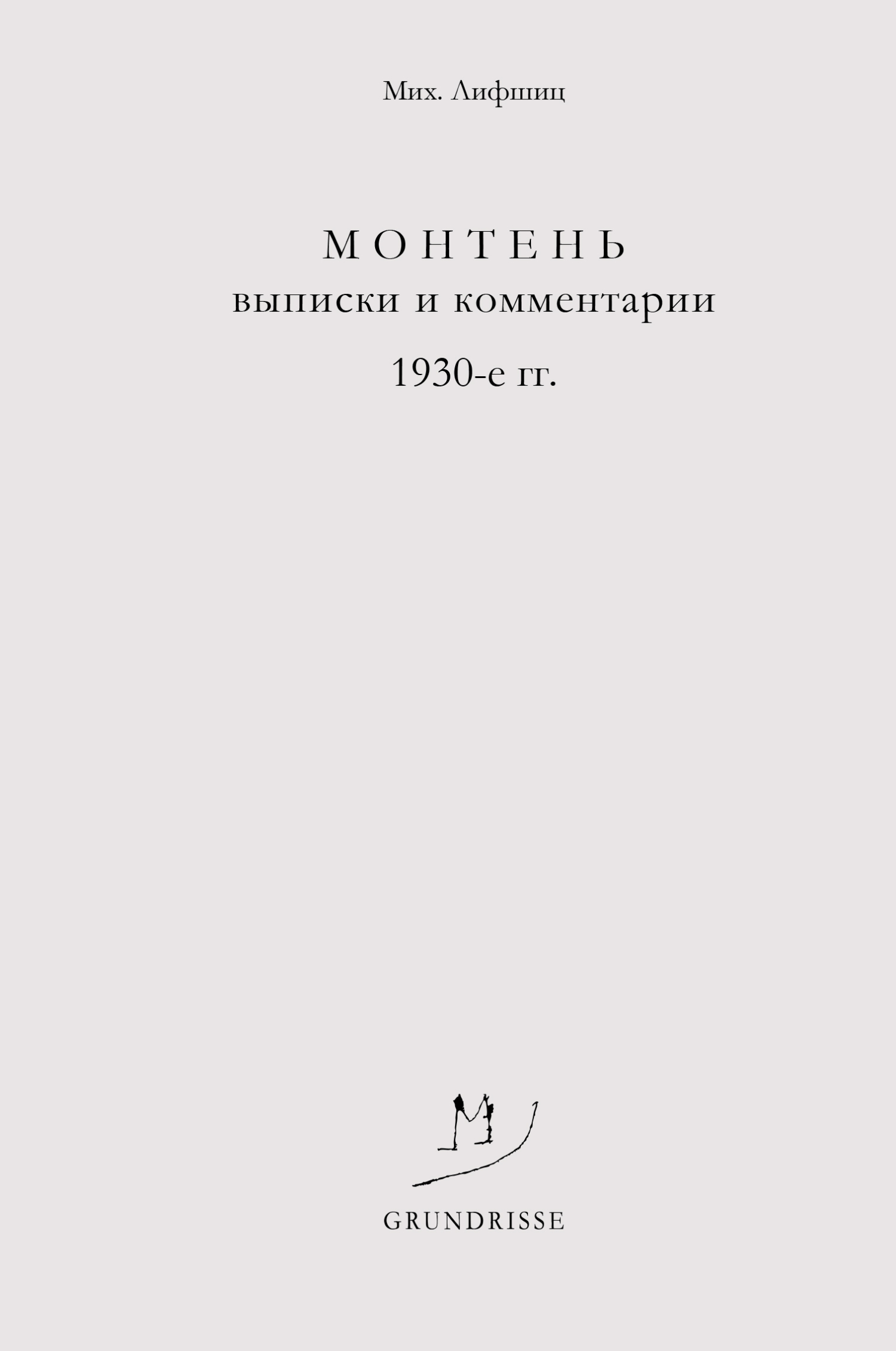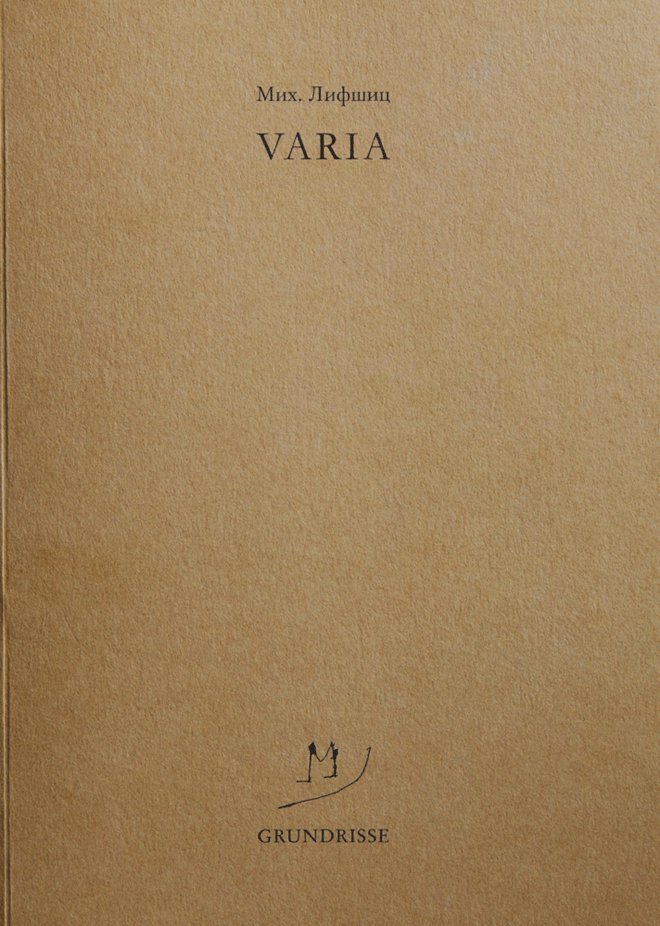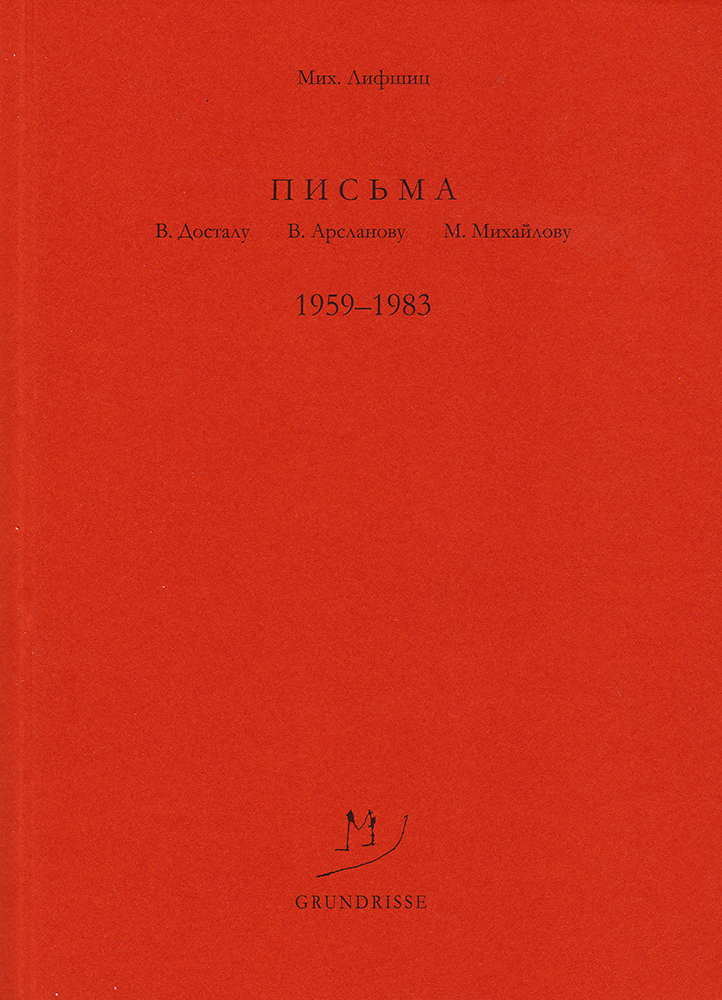самом же деле это происходит лишь потому, что она пережила себя и становится излишней. Если бы тиран был мудр, он должен был бы сам отказаться от своей роли в тот момент, когда разумная необходимость в его терроре отпала. Но он остаётся рабом слепой необходимости, которая в качестве зла заслуживает презрения. «Так именно погиб
Робеспьер. Его сила оставила его, потому что его
оставила необходимость, и тогда он был свергнут силой. Необходимое совершается. Но каждая часть этой необходимости обычно достаётся на долю единичного. Один становится истцом и защитником, другой – судьёй, третий – палачом; но все необходимы».
Вполне ли совершенно понятие исторической необходимости у Гегеля, это другой вопрос. Во всяком случае, его осуждение террора якобинцев не имеет ничего общего с мещанской критикой революции и с политической умеренностью либерального типа. В сущности говоря, он осуждает Робеспьера лишь за то, что последний был увлечён волной террора за пределы необходимого с исторически-разумной точки зрения, а это не так далеко от взглядов Маркса и Энгельса на деятельность якобинцев. Редкий человек в свою эпоху, Гегель не только признал эпоху террора закономерной ступенью своей «Феноменологии духа», но и в более поздние времена, уже в качестве профессора Берлинского университета, считал господствующее отношение к Робеспьеру не вполне справедливым, а деятельность его бескорыстной. «Робеспьер выдвинул в качестве высшего принципа добродетель, и можно сказать, что добродетель для него была делом нешуточным».
Из этого видно, что распространённый взгляд, согласно которому молодой Гегель был сторонником жирондистов, основан на чистых предположениях. В действительности Робеспьер был и всегда оставался для него фигурой, воплощающей Французскую революцию, взятую, разумеется, суммарно, из немецкого далека. Эта суммарность была, естественно, и у Георга Форстера, но так же, как Форстер, которому довелось видеть революцию в самом жерле вулкана, Гегель понимал значение уравнительных социальных идей французских монтаньяров. Так, в одном отрывке из рукописей Гегеля, опубликованном впервые его учеником Розенкранцем и относящемся к франкфуртскому периоду (последние годы XVIII в.), речь идёт о противостоянии между демократическим республиканским устройством и прочным правом частной собственности. Позиция Гегеля здесь выражена осторожно, но с достаточной ясностью: «Были, может быть, несправедливы к системе санкюлотизма во Франции, когда видели источник намеченного ею большего равенства имущества в простой алчности».
Но какое отношение имеет этот вопрос к гегелевскому пониманию истины в искусстве? Весьма близкое. Начнём с того, что всякая мысль, близкая к революционному демократическому или социалистическому содержанию, так или иначе причастная к нему, предполагает возможность истины не только как правильного воспроизведения существующего мира в нашей голове, но и как истинного состояния самого мира (Weltzustand, по терминологии гегелевской эстетики). Это состояние может быть свойственно исторической действительности в прошлом или настоящем, оно может быть так или иначе выведено из неё или создано нашей разумной волей, но возможность его предполагается. Недаром на пороге всей истории социальных утопий мы видим фигуру Платона, который говорит об «истине бытия» или «истинном бытии». К этому бытию, по мысли Платона, приближает нас истинность знания и образа жизни. Но не только утопия Платона – любая программа демократии и социализма, даже самая реальная, извлечённая не из абстрактной идеи, а из необходимости общественного развития, есть законный плод нашего убеждения в том, что различие между истинным и ложным положением вещей заложено в самой природе общественного бытия. «Отсюда и гнев», по известной латинской поговорке, отсюда полемика позитивистской литературы наших дней против того, что Ленин вслед за Гегелем назвал однажды «истинно-сущим бытием». Люди, видящие в социалистической мечте массовый психоз, не принимают и понятия истины за пределами субъективного или «интерсубъективного» пространства. Истина как объективная реальность для них простой пережиток тёмных времён ещё не знавшей науки старины. Конечно, идеализм Французской революции и немецкой классической философии был односторонним, преувеличенным изображением идеала «истинно-сущего бытия». Но исключить эту грань из нашего сознания значит отречься от всякой идеи преобразования мира в духе его собственной внутренней нормы, т. е. остаться в плену «безнадёжного фатализма», как писал Георг Форстер два года спустя после своего гимна истине, когда он уже чувствовал некоторое разочарование в стихийном движении революционных событий, стараясь всё же понять исторический смысл этой трагедии.
Но пойдём дальше. Говоря об истине, Гегель настаивает на том, что она строго отличается от простой правильности, внешнего соответствия нашей субъективной идеи её предмету (и предмету, в котором воплощается наша воля, её замыслу). Такое соответствие, сознательно или бессознательно принимаемое нами в обыденной жизни, в области рассудка, само по себе возможно, но возможно лишь при том условии, что предмет соответствует самому себе. Как это понимать?
Будем по возможности держаться примеров, близких современному умственному обиходу. Экономический анализ капитализма стал возможен, когда сам капитализм в XVIII–XIX вв. получил классическое развитие, по крайней мере в Англии, которая служила моделью для научных выводов Рикардо и Маркса. Это – пример известный, но не исключительный68. Все явления окружающего нас мира могут, повторяясь, приобрести род относительной автономии, классики, или, согласно Гегелю, равенство своему понятию. Нет определённого бытия без присутствующей в нём нормы. Нечто существует, только достигнув порога своей реальности.
Существует ли, например, определённая микрочастица, или это неосновательное предположение, нечто только кажущееся? Как бы ни был сложен модус её существования, она должна быть идентифицирована путём вызванного исследователем повторения одного и того же эффекта. Нечто существует, но соответствует ли оно понятию частицы и в чём – в какой мере – вот неотвратимый дальнейший вопрос. Повторение одного и того же есть важный момент всеобщей жизни, сопровождающий как подъём, так и, наоборот, катаморфоз, гибель определённого круга реальности. Говоря о повторном установлении единовластия в Риме, Гегель прибавляет: «Так Наполеон дважды потерпел поражение, а Бурбоны были дважды изгнаны. Путём повторения то, что вначале казалось только случайным и возможным, становится чем-то действительным и подтверждённым».
Адекватность предмета самому себе, возникающая в его повторяющемся цикле, есть существенный фон адекватности нашего знания предмету. Отсюда можно понять и случай неадекватности, противоречия, отклонения, варианты и всё своеобразие единичных фактов. Связанные всеобщей цепью развития, они образуют как бы реальные универсалии, не только внешние классы, но и логически связанные между собой подразделения, ступени, круговращения, замкнутые в их относительных рамках. Всё имеет свой «предельный тип», по выражению Герцена. Так, в современной биологии применяется «таксономический» принцип, состоящий по существу именно в том, что определённый вид, разновидность, подвид, популяция, штамм признаётся чем-то соответствующим норме, т. е. своему понятию.
Но и обычный язык широко пользуется словом истина в гегелевском смысле. Когда я говорю: «Вот