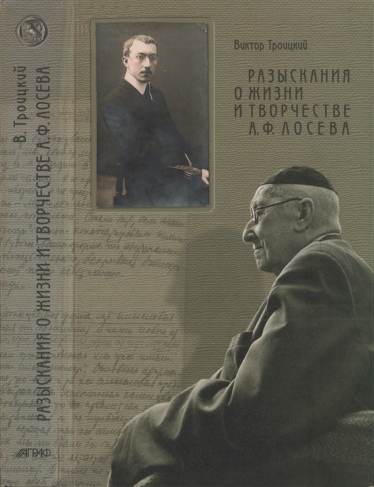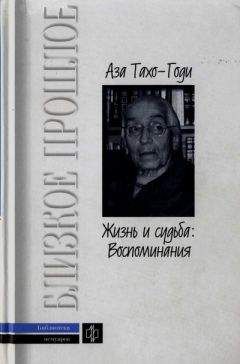преддверие той грандиозной и сложной темы, развитие которой следует искать на страницах «Истории античной эстетики». Нам же да будет дозволено завершить данные заметки малым фрагментом из этой эпопеи гуманитарного знания – в той ее части, где Лосев касается одной из структурных сторон учения неоплатоника Прокла и, как представляется, выражает и собственные симпатии:
«Таким образом, точка, по Проклу, вовсе не является абстрактным построением, лишенным частей внутри себя и лишенным всякой связи с окружающим ее инобытием. <…> Всякая точка бурлит своими смысловыми энергиями, которые не могут не изливаться в окружающем ее фоне. <…> В ней есть свой неподвижный центр, но в ней есть также и тот круг, тот шар, который единообразно вокруг нее расположен. В ней бурлит управляемое ею круговращение всякого бытия. <…> Она есть лик тайного всеединства и той явной целостности бытия, которое является результатом ее вечного смыслового бурления.
Точка – прекрасна» 14.
Книги этого выдающегося мыслителя, читаем, были доступны
«лишь для немногих, да и то издавал он их не легко и не спокойно, и назначались они не для простого беглого чтения, а чтобы читающие вдумывались в них со всем старанием» (4. 13, 16) 1.
«Писал он их в разное время, одни – в раннем возрасте, другие – в зрелом, а третьи – уже в телесном недуге» (6. 11 – 13); «написав что-нибудь, он никогда дважды не перечитывал написанное; даже один раз перечесть или проглядеть это ему было трудно, так как слабое зрение не позволяло ему читать» (8. 1 – 4).
«Продумав про себя свое рассуждение от начала и до конца, он тотчас записывал продуманное и так излагал все, что сложилось у него в уме, словно списывал готовое из книги. Даже во время беседы, ведя разговор, он не отрывался от своих рассуждений: произнося все, что нужно было для разговора, он в то же время неослабно вперял мысль в предмет своего рассмотрения» (8. 8 – 14) «и беседы с самим собою не прекращал он никогда, разве что во сне, впрочем, и сон отгонял он от себя» (8. 18 – 20).
«Писал он обычно напряженно и остроумно, с такой краткостью, что мыслей было больше, чем слов, и очень многое излагал с божественным вдохновением и страстью» (14. 1 – 3). «Ум его в беседе обнаруживался ярче всего: лицо его словно освещалось, на него было приятно смотреть» (13. 5 – 6). Впрочем, всегда находились осуждавшие его «за то, что он чужд всякой софистической броскости и пышности, за то, что говорит он так, словно в домашней беседе» (18. 6 – 8).
«Учеников, преданно верных его философии, у него было много» (7. 1 – 2). «Были при нем женщины, всею душою преданные философии» (9. 1 – 2).
«Был он добр и легко доступен всем, кто хоть сколько-нибудь был с ним близок» (9. 16 – 17), но и без того «и слог его, и густота мыслей, и философичность исследований» не могли не быть «в великом почете у всех пытателей истины» (19. 35 – 37).
Приведенные отрывки из «Жизни Плотина» (составлено Порфирием, ближайшим учеником Плотина, около 300 г. от P.X.) обретают особый смысл и взывают к нежданной теме, когда находишь их в одном из томов «Истории античной эстетики» А.Ф. Лосева. И поражает, пожалуй, не столько до странности дословное совпадение избранных мест из порфириева повествования и внешних подробностей жизни самого «историка античной эстетики», сколько неизвестно откуда берущееся ощущение, что для Лосева так и должно быть. Тотчас обнаруживается, что оттуда же (пока – «неизвестно откуда») проистекает и уверенность одних его современников, что Лосев-де поразительно напоминает профессора философии из Германии XIX века, что, по мнению других, он словно сошел, чудесным образом материализовавшись, откуда-то из красочного пространства «Афинской школы» божественного Рафаэля и что, вместе с тем, правы и те, кто видит в нем прямого посланца русского религиозно-философского «серебряного века», и тут уже кстати будут свидетельства реальной метрики уроженца казачьего Новочеркасска. Лосев предстает многознающим и многоликим, подобно Протею из греческих мифов. Конечно, история культуры и без факта существования Протея-Лосева знает примеры подобного протеизма: давно замечено, что В.О. Ключевский изрядно смахивал на московского дьячка XVII века, что область исследовательских интересов наложила явственный отпечаток и на облики академиков Б.А. Тураева («настоящий древний египтянин») и Ф.И. Щербатского («много от древней Индии»), что первый русский китаист Иакинф Бичурин в старости ничем даже по внешности не отличался от любезных ему китайцев, а писатель А.М. Ремизов – от персонажей «с чертовщинкой» из собственных фольклорно-этнографических штудий 2. (А что подобные метаморфозы определяются не только знаменитой переимчивостью загадочной русской души, свидетельствует хотя бы недавний случай французского философа Рене Генона с его полным – от рода ученых занятий до образа бытового поведения – уходом в «традиционную» цивилизацию Востока.) И все-таки, повторим, тайная либо явная убежденность чутких читателей лосевских книг в том, что написаны они, скажем так, подлинным эллином – пришельцем издалека, убежденность эта выделяет феномен Лосева в особенный разряд. Сразу рискнем дать и разъясняющий ответ: решающую роль в данном случае сыграла максимальная воплощенность некой любимой идеи в индивидуальной жизни (точно по А. Швейцеру – своя жизнь как аргумент), когда предмет научного интереса не остается только «объектом», внешним относительно исследователя, но становится необходимо внутренней основой его собственного духовного опыта, становится частью «субъекта» исследования. И предмет этот подарен античностью, это – диалектика, в ней же и располагается, похоже, ранее упомянутое «неизвестно откуда».
Чтобы показать, как именно лосевский «протеизм» связан с диалектикой, мы начнем с известной констатации С.С. Аверинцева относительно творчества А.Ф. Лосева: «со времен Василия Розанова и Павла Флоренского не было, кажется, никого, кто отважился бы с такой последней откровенностью говорить на темы, которые принято называть отвлеченными» 3. Да, с последней откровенностью и – продолжим – с откровенной точностью и верной, последней простотой. Раз и навсегда приняв бессмертные формулы «Парменида» и «Софиста», Лосев именно с опорой на платоновскую диалектику предпринял мощную попытку заново создать «первую философию», обнаружить «логические скрепы бытия». Наверное, можно и нужно оспаривать исходные предпосылки, к примеру, книги «Античный космос и современная наука». Но хотя бы временно принимая эти посылки, нельзя не оценить тот универсализм и ту последовательность,