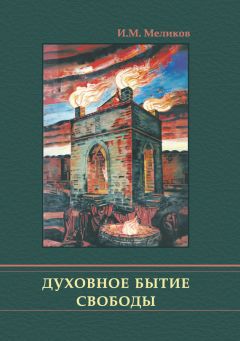class="p1">Эта разница подчеркивает контраст между идеями Гуссерля и Хайдеггера в 1930-е годы. В то десятилетие Хайдеггер все больше обращался к архаике, провинциальности и устремленности вовнутрь, о чем свидетельствует его статья о том, почему он не переехал в Берлин. В ответ на те же события Гуссерль повернулся к внешнему миру. Он писал о своих мирах в космополитическом духе — и это в то время, когда слово «космополит» стало оскорблением, часто понимаемым как «еврей». Он был одинок во Фрайбурге, но использовал свои последние выступления 1930-х годов в Вене и Праге, чтобы обратиться с призывом к международному научному сообществу. Видя вокруг себя социальный и интеллектуальный кризис, Гуссерль призывал деятелей науки к совместной работе против растущего иррационализма и мистицизма, против культа всего местного, чтобы спасти дух Просвещения — всеобщего разума и свободного знания. Он не ожидал, что кто-то вернется к невинной вере в рационализм, но утверждал, что европейцы должны защищать разум, поскольку если его потерять, то вместе с ним будет потерян континент и весь культурный мир.
В своем эссе 1933 года «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему» Габриэль Марсель представил прекрасный образ, отражающий взгляд Гуссерля на то, что могут для нас сделать встречи с иным и международные связи. Он писал:
…мне лично понятно из опыта, как может от незнакомого, случайно встретившегося человека исходить призыв, которому ты не можешь противостоять, он способен спутать все, казалось бы, устоявшиеся перспективы, — так порыв ветра мог бы смешать все упорядоченные планы декорации: что казалось близким, становится бесконечно далеким; чаще всего эти бреши сразу же заполняются снова… [44]
Смена декораций и резкая перенастройка перспектив характеризуют многие неожиданные встречи, описанные в этой книге: открытие Брентано Хайдеггером в юности, открытие Гуссерля Левинасом в Страсбурге, открытие Гуссерля (и Левинаса) Сартром через Раймона Арона в Bec-de-Gaz — и многое другое. Открытие Мерло-Понти поздних работ Гуссерля в 1939 году было одним из самых плодотворных среди этих открытий. Во многом благодаря этой единственной неделе чтения в Лувене он разработает свою изысканную и богатую философию человеческого воплощения и социального опыта. Его работа, в свою очередь, повлияет на поколения ученых и мыслителей, и по сей день соединяя их с Гуссерлем.
Гуссерль прекрасно понимал ценность своих неопубликованных работ, незаконченных, хаотичных и едва разборчивых, для потомков. Он писал другу в 1931 году: «Самая большая и, как я считаю, самая важная часть труда всей моей жизни по-прежнему лежит в моих рукописях, едва поддающихся изучению из-за их объема». Наследие Гуссерля было почти самостоятельной формой жизни: биограф Рюдигер Сафрански сравнил его с сознанием моря в романе Станислава Лема «Солярис» [45]. Сравнение вполне уместно, поскольку море Лема общается, вызывая идеи и образы в сознании людей, которые к нему приближаются. Архив Гуссерля оказывал свое влияние примерно тем же способом.
Если бы не героизм и энергия отца Ван Бреда, весь архив был бы потерян. Его вообще не было бы, не продолжай Гуссерль совершенствовать и развивать свои идеи даже после того, как многие решили, что он просто ушел на покой и спрятался. Более того, ничто из этого не сохранилось бы без доли везения: это напоминание о том, какую роль играет случайность даже в самых продуманных человеческих делах.
Визит Мерло-Понти в Лувен состоялся в последние месяцы мира, в 1939 году. Это был год, как позже описала его де Бовуар, когда история захватила их всех и больше никогда не отпускала.
Де Бовуар и Сартр провели тот август в отпуске в вилле в Жуан-ле-Пене вместе с Полем Низаном и Жаком-Лораном Бо. Они читали газеты и слушали радио и со страхом и отвращением восприняли новость о заключении 23 августа пакта между нацистами и Советским Союзом, который означал, что Советский Союз будет наращивать собственную мощь и не окажет никакого противодействия в случае экспансии Германии. Это стало особенно сильным ударом для всех, кто поддерживал советский коммунизм как великий противовес нацизму, как это, безусловно, делал Низан, а также в некоторой степени Сартр и де Бовуар. Если Советский Союз не сможет противостоять нацистам, то кто? И вновь война, казалось, могла начаться в любой момент.
Что предпочтительнее — вернуться с фронта ослепленным или с изуродованным лицом? Без рук или без ног? Разбомбят ли Париж? Применят ли они отравляющие газы? Подобные дебаты шли не только в Лувене, но и на другой вилле на юге Франции, где венгерский писатель Артур Кестлер гостил у своего друга Этторе Корнильона; последний заметил, что смена настроений в тот август напомнила ему, как его бабушка «лечила его от обморожения, заставляя попеременно опускать ноги в ведро с холодной и ведро с горячей водой».
Сартр знал, что его не отправят на фронт из-за проблем со зрением. В молодости он проходил всеобщую воинскую службу на метеостанции, что означало, что сейчас его направят на аналогичную работу — то же, чем занимался Хайдеггер во время Первой мировой войны. (Раймона Арона тоже направили на метеостанцию в том же году; похоже, такая у философов работа.) Эта роль не предполагала боевых действий, но все равно была опасной. Для Бо и Низана опасность была еще больше: они были трудоспособны и ожидали, что их призовут и отправят воевать.
Отпускной сезон во Франции закончился 31 августа, и многие парижане в этот день отправились домой после загородного отдыха. Сартр и де Бовуар тоже вернулись в Париж, и Сартр был готов забрать вещмешок и армейские ботинки, хранившиеся в его гостиничном номере, и явиться в свою часть. Они с де Бовуар сделали пересадку в Тулузе, но парижский поезд оказался настолько переполненным, что они не смогли сесть. Им пришлось ждать еще два с половиной часа на темном вокзале среди толпы встревоженных людей и в атмосфере апокалипсиса. Подошел другой поезд, они кое-как в него сели и добрались до Парижа, прибыв 1 сентября — в день, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Сартр собрал свои вещи. Де Бовуар проводила его на вокзале Гар де л’Эст рано утром следующего дня. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну.
Американская виза для Мальвины Гуссерль так и не была оформлена, поэтому к началу войны она все еще находилась в Лувене. Гуссерль осталась там, благоразумно спрятавшись в близлежащем монастыре в Херенте. Коллекцию Гуссерля перевезли из главной университетской библиотеки в Высший философский институт в январе 1940 года — то есть вовремя. Четыре месяца спустя большую часть университетской библиотеки уничтожили бомбами