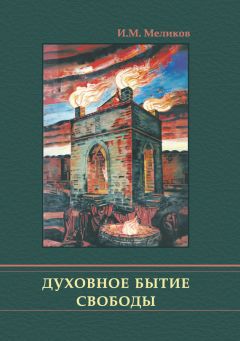здесь. «Признаться, мне все тут кажется странным и чужим», — написал он в своей записной книжке в марте 1940 года. «Будущего нет», — добавил он в недатированной записке. Однако это настроение не помешало ему работать над литературными проектами: романом «L’étranger» («Незнакомец» или «Посторонний» [46]), длинным эссе «Миф о Сизифе» и пьесой «Калигула» [47]. Он назвал их «три абсурда», потому что все они были посвящены бессмысленности или абсурдности человеческого существования — тема, которая, казалось, возникла в то время сама собой.
Тем временем Сартр, чья метеорологическая служба проходила в Брюмате, недалеко от границы с Германией в Эльзасе, занимался практически только чтением и писательством. В перерывах между запуском воздушных шаров и наблюдением в бинокль или сидя в казарме и слушая, как его сослуживцы играют в пинг-понг, он умудрялся работать над своими проектами по двенадцать часов в день. Сартр вел дневник и писал длинные ежедневные письма, среди которых было много ласковых излияний Симоне де Бовуар — письма наконец-то стали доходить, и они снова общались. Он делал заметки, которые позже превратятся в «Бытие и ничто», и создавал первые черновики цикла романов «Дороги свободы». Первый том был набросан к 31 декабря 1939 года, после чего Сартр немедленно приступил ко второму. «Если война будет продолжаться в таком медленном ритме, то к наступлению мира я напишу три романа и двенадцать философских трактатов», — писал он де Бовуар. Сартр умолял ее присылать ему книги: Сервантеса, маркиза де Сада, Эдгара Аллана По, Кафку, Дефо, Кьеркегора, Флобера и лесбийский роман Рэдклифф Холл «Колодец одиночества». Его интерес к последнему, вероятно, был вызван рассказами де Бовуар о ее похождениях, поскольку, как они и договорились, она делилась с ним всем.
Сартр мог бы счастливо жить так годами — но смешная война оказалась шуткой со сбивающей с ног концовкой. В мае 1940 года Германия внезапно захватила Голландию и Бельгию, а затем напала на Францию. Сражаясь на фронте, Бо был ранен и получил Croix de guerre [48]. Поль Низан, старый друг Сартра и недавний товарищ по отдыху, был убит под Дюнкерком 23 мая, незадолго до масштабной эвакуации союзных войск. Мерло-Понти направили в качестве пехотного офицера в Лонгви на линию фронта. Позже он вспоминал одну долгую ночь, когда он и его подразделение слышали крики о помощи немецкого лейтенанта, который был ранен и застрял в колючей проволоке: «Французские солдаты, спасите умирающего». Им приказали не идти к нему, так как эти крики могли быть уловкой, однако на следующий день они нашли его на проволоке мертвым. Мерло-Понти никогда не забудет вид «тощей груди, которую форма едва согревала в этот почти нулевой холод… пепельно-русые волосы, нежные руки».
Бои были ожесточенными, но недолгими. Память о Первой мировой войне была так свежа, что французские командиры и политики выступали за скорейшую капитуляцию, чтобы избежать бесполезной бойни, — разумная точка зрения, хотя, как и другие, казалось бы, рациональные расчеты в эту нацистскую эпоху, она была сопряжена с психологическими издержками. Отряд Раймона Арона отступил, так и не увидев врага, и присоединился к группам гражданских лиц, бежавших по дорогам; будучи евреем, он знал, какой опасности подвергался со стороны немцев, и быстро добрался до Британии, где всю войну работал журналистом на Свободные французские силы. Мерло-Понти попал в плен и некоторое время содержался в военном госпитале в Сент-Ирье. Сартр тоже оказался в плену.
Де Бовуар снова потеряла с ним связь и долгое время не имела никаких известий ни о нем, ни о ком-либо другом. Она тоже присоединилась к гражданским беженцам, все они бежали на юго-запад, не задаваясь никакой целью, кроме как избежать наступления на них с северо-востока. Симона уехала с семьей Бьянки Биненфельд в машине, битком набитой людьми и чемоданами. Велосипед, пристегнутый спереди, загораживал свет фар, пока перегруженная машина продвигалась в автомобильном потоке. Выехав за пределы города, они разъехались. Де Бовуар села на автобус и несколько недель гостила у друзей в Анже. После этого она, как и многие другие, вернулась в Париж, а на обратном пути ее даже подвезли на немецком грузовике.
Город показался ей совершенно обычным — за исключением того, что теперь повсюду прогуливались немцы, одни выглядели надменными, другие — озадаченными или смущенными. Уже через полгода, в январе 1941 года, писатель Жан Геенно заметил: «Мне кажется, я могу прочесть смущение на лицах оккупационных войск… Они не знают, что делать на улицах Парижа и на кого смотреть». Де Бовуар возобновила свою привычку писать в кафе, но ей непривычно было наблюдать группы нацистов в форме, которые наслаждались кофе с коньяком за соседними столиками.
Она также начала приспосабливаться к небольшим разочарованиям и компромиссам, которые стали для парижан неизбежными. Чтобы сохранить работу преподавателя, ей пришлось подписать документ, в котором говорилось, что она не является ни еврейкой, ни масонкой. Это было «отвратительно», но она сделала это. Поиск продуктов или топлива для предстоящей зимы на черном рынке стал обычным делом, поскольку запасы в городе истощались. Те, у кого были друзья в сельской местности, с благодарностью ждали от них посылок со свежими продуктами. Однако иногда они шли слишком долго: в первой посылке, которую получила де Бовуар, был прекрасно приготовленный кусок свинины, кишащий личинками. Она соскребла их и спасла то, что смогла. Позже она придумала, как промыть вонючее мясо в уксусе, а затем несколько часов тушить его с приправой из крепких трав. У нее в комнате не было отопления, поэтому она ложилась спать в лыжных штанах и шерстяном свитере, а иногда в таком же виде вела занятия. Симона стала носить тюрбан, чтобы сэкономить на парикмахерах, и обнаружила, что ей идет. «Я стремилась упростить все, что только можно», — писала она в своих мемуарах.
Одним из необходимых изменений было научиться мириться с идиотскими морализаторскими поучениями, ежедневно исходящими от коллаборационистского правительства, — напоминаниями о необходимости уважать Бога, чтить семейные устои, следовать традиционным добродетелям. Это возвращало ее к «буржуазным» разговорам, которые она так ненавидела в детстве, но на этот раз подкрепленным еще и угрозой насилия. Впрочем, возможно, такие разговоры и прежде подкреплялись скрытой угрозой насилия? Впоследствии она и Сартр сделали это убеждение центральным в своей деятельности: благозвучным буржуазным ценностям, по их мнению, никогда нельзя было доверять или принимать их за чистую монету. Возможно, они это поняли как раз во время юродствующего режима, которым была оккупированная Франция.
Де Бовуар по-прежнему не знала, жив ли Сартр. Чтобы успокоиться (и согреться), она стала каждый день