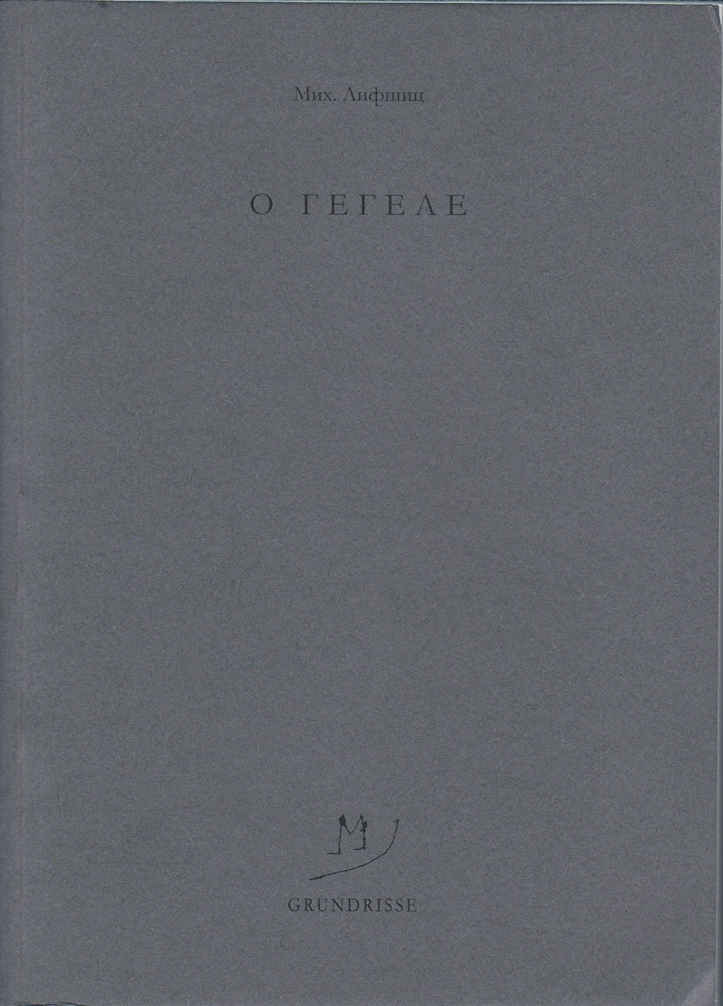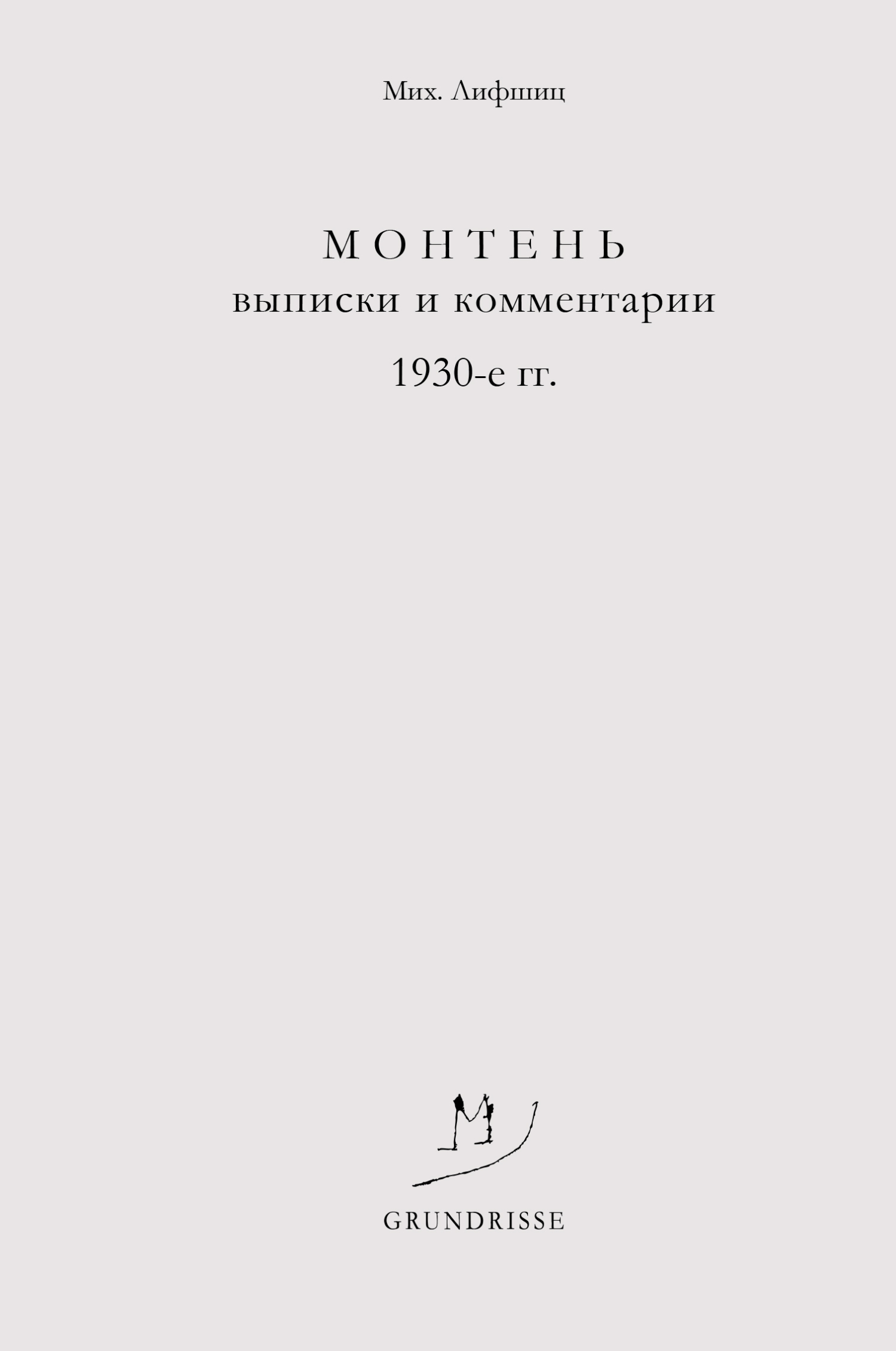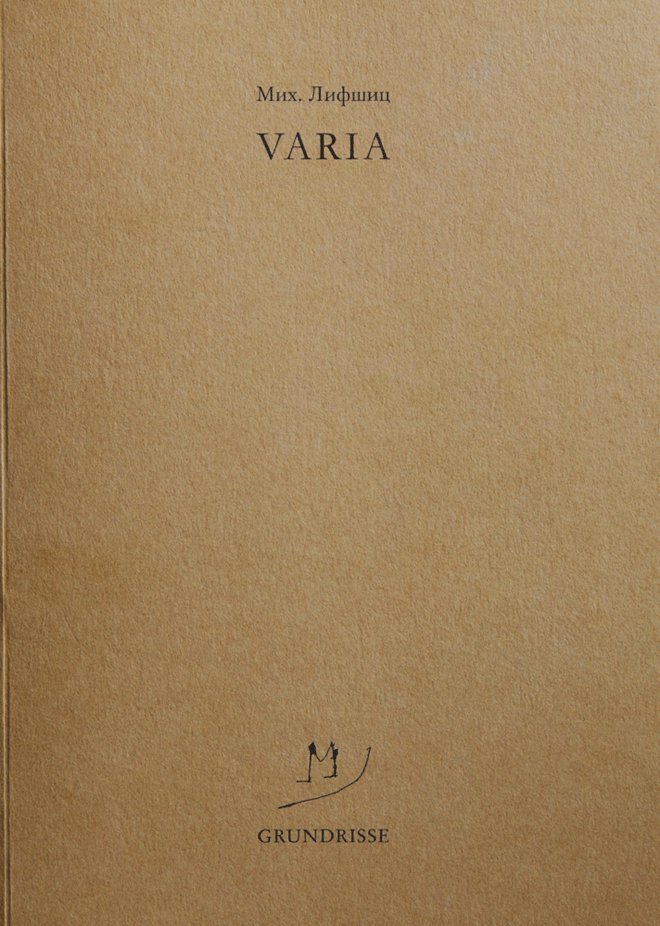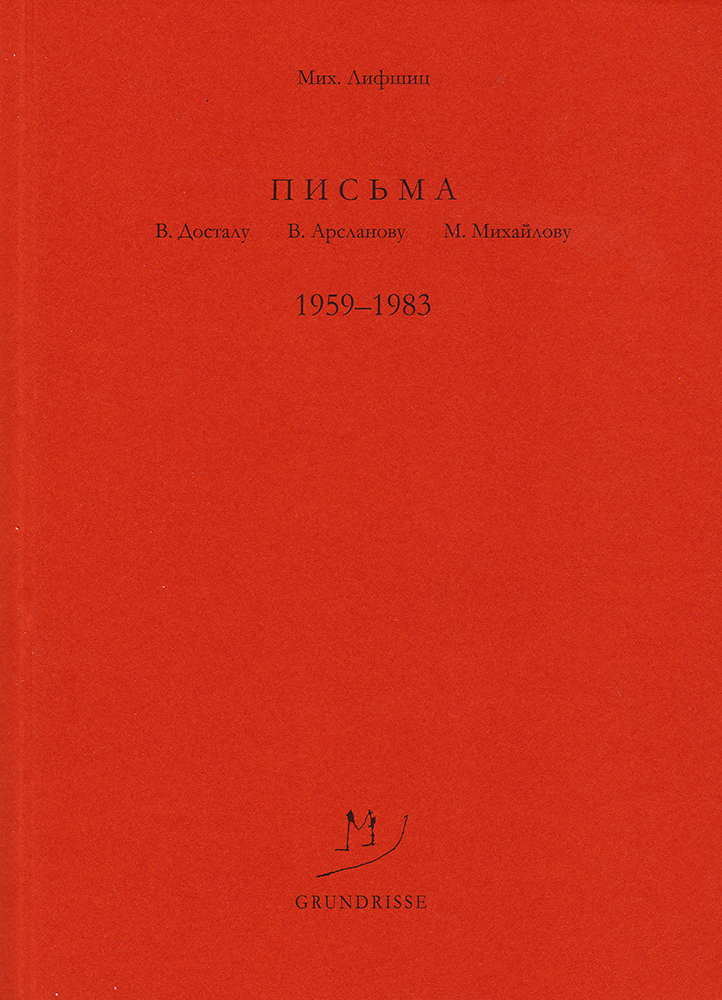его отношение к истине, не зависимой от нашего произвола и нашего умения делать дела. Техническая вседозволенность, согласно которой всё можно сделать посредством умелой симуляции, – мысль, известная уже XVIII веку, – наталкивается, согласно Гегелю, на объективную границу равенства самому себе в каждой реальности, её Ansich.
Решает всегда содержание дела. В битвах народов, в движениях общественной психологии, победах нового общественного строя последнее слово всегда остаётся за объективной истиной, которую Гегель понимает как высшее развитие самой реальности.
И это норма бытия, или, по другой терминологии, разум его, является критерием успеха всякого человеческого дела. Было бы несправедливо забывать, что честь первого теоретического выражения этого правила принадлежит именно Гегелю.
Мысль о решающей роли истины как содержании всякого дела, выведенная великим немецким мыслителем из победы нищих, плохо вооружённых санкюлотов над прекрасно вышколенными и богато снабжёнными войсками реакционной коалиции, была переворотом не только в эстетике. Она возвещала падение старого режима во всей области духовной жизни, кризис идеологии правящих классов старой Европы, уверенных в том, что всё зависит от силы, оружия, денег, коварства дипломатии, ловкости чиновников, правителей дел. Разве формальная правильность содержания человеческой головы не была идеалом просвещённого деспотизма XVIII века, разве указом французского короля не было предписано ткать платки только строго квадратной формы, разве идея формальной рассудочной истины не перешла в утилитарную и позитивистскую философию буржуа XIX века, литературным типом которого является образ мистера Грэдграйнда в «Тяжёлых временах» Диккенса? Естественно, что в противовес этому обращение к неформальному, объективно истинному содержанию любой человеческой деятельности, в том числе и художественной, сказалось, под влиянием Гегеля, как и в революционной демократии прошлого века, так и в научном социализме.
Присутствие такого содержания образует смысл и ценность, подлинную валюту жизни и в малых поступках отдельной личности, и в обширных делах всемирной истории, и в искусстве, и в науке.
Мы говорим, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы, мы предсказываем гибель тем государствам, которые строят свои несправедливые планы на богатстве или военной силе, мы утверждаем, что классы, образующие праздное меньшинство, осуждены историей, – короче, мы хотим всем этим сказать, что истина существует и её исторический баланс при всех его противоречиях есть внутренний закон всякой человеческой деятельности, её «субстанциальное» содержание. Эта мысль содержится и в теории исторического материализма, она подтверждается множеством конкретных анализов различных поворотов общественной практики, она является драгоценной особенностью классической марксистской литературы в отличие от прагматической, формальной, обывательской постановки тех же вопросов в литературе классовых врагов марксизма.
Отсюда ясно также, чем гегелевская философия искусства пленила русскую критику прошлого века. В Системе, увенчанной самодержавием, господствовал традиционный взгляд на художественное творчество. В нём видели особую технику внушения идей, отвечающих казённому фасаду общественного здания. Ничтожество искусства, основанного на рассудочных правилах, официальной идеологии и вольностях частного благоустройства, было для Белинского явным признаком ничтожества самой жизни, лишённой органической общественной связи, наполненной такими же механическими, рутинными, призрачными деяниями, основанными на глупой вере в то, что всё можно сделать, организовать или, ещё проще, приказать независимо от самого содержания дела.
Всё это показывает, что гегелевская эстетика содержания несла в себе громадный заряд революционной критики общества, в какую бы тесную форму не было спрятано её критическое направление. Кстати говоря, несмотря на умозрительный стиль своей философии, Гегель с ранних лет отличался склонностью к анализу отдельных, чем-нибудь замечательных фактов истории, этнографии, культуры. Он был для своего времени незаурядным знатоком живописи, с увлечением посещал театр, оперу, оставил критические разборы литературных произведений, нелицеприятные даже по отношению к таким его великим современникам, как Гёте и Шиллер. С этой точки зрения «Лекции по эстетике» Гегеля – явление не только теории искусства, но и литературно-художественной критики. Ничего подобного нет ни у Канта, ни у Фихте, ни у Шеллинга. Это была, конечно, философская критика, но она послужила руководящей нитью для статей Белинского, а эти статьи с их пламенным непримиримым отрицанием литературы, лишённой истинного, «субстанциального» содержания, в свою очередь бросают свет на общественную тенденцию самого Гегеля, скрытую под тяжкой мантией его идеалистической философии.
Главное зло, против которого направлено острие гегелевской критики, почти сатиры, – это пошлая обывательщина, самодовольное филистерство, уверенное в том, что его ничтожные дела суть высший плод всей человеческой цивилизации69. То, что Гегель ещё в юношеские годы в Тюбингене, Берне, Франкфурте писал о невыносимой атмосфере «позитивности», относится не столько к официальной религии, сколько к этому царству мелких и мельчайших частных интересов, в котором утрачено всякое воспоминание о всеобщем начале гражданской жизни. Для отечественного философского мира, погрязшего в своей местной и общественной раздробленности, Гегель готов был пожелать даже самодержавного правителя с крепкой дланью – вроде тиранов древности или князя Макиавелли, Наполеона или хотя бы Валленштейна, но без его немецкой рефлексии. Так, по крайней мере, думал автор так называемой йенской реальной философии 1805–1806 годов.
Прозу обыденного существования Гегель рассматривал как плод исторического торжества буржуазного образа жизни, подчиняющего себе дурное государство, не соответствующее своему понятию, и требующего сдерживания со стороны государства истинного, которое было его идеалом, утопией. Прав был философ, говоря о нравственной силе государства, или нет, и в чём может быть здесь рациональное зерно его учения – не наша тема, для нас здесь важно другое. Достаточно сказать, что буржуазный, или мещанский, образ жизни, глубоко презираемый Гегелем, он рассматривал как противоположность героического миропорядка, лежавшего в основе древнего эпоса, греческой трагедии и на другом уровне развития – шекспировской драмы. Обычным примером, чуждым высокому «субстанциальному» содержанию, житейской обывательщины в искусстве был для Гегеля автор многочисленных пьес из буржуазной жизни – Август Фридрих Коцебу, которого философ третировал также за его мещанские выпады против Гёте. Пример этот характерен ещё и тем, что Коцебу был заколот в 1819 году студентом Зандом как агент реакционного «Священного союза». Несмотря на то, что казнь Занда стала началом волны репрессий, Гегель часто обращается к пьесам Коцебу и критикует их в своих берлинских лекциях по эстетике.
Его отталкивало в этих пьесах именно то, что производило впечатление на обывателя, – изображение современных мещанских нравов, лишённых всякого отношения к доступному людям подъёму подлинной жизни, отвечающей своему понятию, насыщенной не мелочным, а высоким и всеобщим содержанием. Гегель не сомневался в том, что такое содержание на свете есть, хотя не всякому искусству оно доступно. В пьесах Коцебу немецкая публика видела то же самое, что она привыкла видеть в обыденной жизни: «Пасторы, коммерции советники, прапорщики, секретари или гусарские майоры», «наши печали и горести, кража серебряных ложек» и т. д. «Каждый