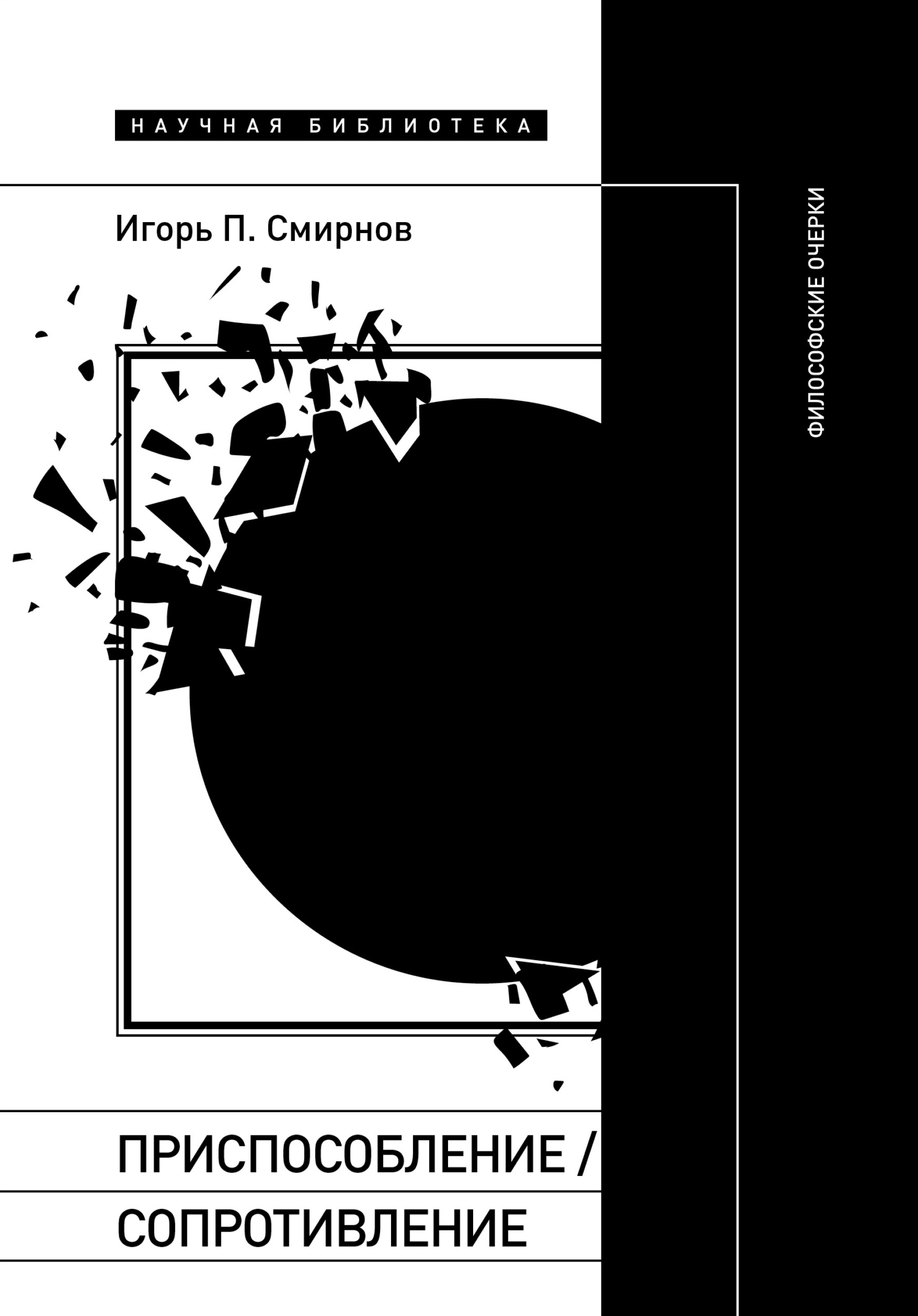(«Логико-философский трактат», 1918–1921), с границами мира субъекта (§ 5.6). Язык есть одновременно и traditum, и tradendum, он перенимается поднимающимися на историческую сцену поколениями у покидающих ее и вместе с тем служит передатчиком всяческих смысловых комплексов. Язык как таковой (помимо его национальных манифестаций) обеспечивает передачу в будущее не только отдельных идей; много более того – он медиализует саму идею традиции. Дискурсы специфицируются в зависимости от того, какие именно из смысловых комплексов подлежат наследованию. Важнейшие дискурсивные формации – философская, художественная, политическая и научная речь. Каждый из названных типов высказывания берет точкой отсчета субъекта, владеющего языком (в сциентизме отправную позицию занимает, как мы увидим, минус-субъект; наука антропоцентрична наизнанку – в попытке забыть, что она создается человеком).
Философский дискурс оперирует смыслом, объем которого более нельзя расширить. Философия старается вникнуть в то, чтó такое бытие, сколь бы разноголосо оно ею ни определялось: как начало, к которому возвращается любое удаление от него (Парменид), как необходимое дополнение к недостаточным «здесь» и «сейчас» (Готфрид Вильгельм Лейбниц), как бытие-к-смерти (Мартин Хайдеггер) или как-то иначе. Бытие открывается тому, кто наделен самосознанием, то есть способностью отдифференцировать себя от всего, что ни есть. Идея вообще сущего – продукт автообъективирования субъекта, делающего его эквивалентным любому объекту, какой только можно помыслить. Субъект, от лица которого вещает философия, – человек как таковой, коль скоро самосознание квалифицирует род людской в его уникальности среди живой природы. Этот отвлеченный от прочих своих характеристик человек входит в круг философских занятий наряду с бытием, которое без него не стало бы обретенным. Неустранимость философского дискурса из трансформирующейся социокультурной практики мотивирована, таким образом, его антропологической релевантностью. По отношению к прочим дискурсам философия выступает своего рода джокером. Она готова подменять литературную, политическую и научную речь в роли эстетики, утопии и методологии исследований, дублируя в своем всезнайстве традирование в разных отраслях знания за их рамками и составляя тем самым резерв дискурсивности. Как теодицея философия вмешивается и в религиозный дискурс, о котором будет говориться позднее.
В противоположность философии литература сосредоточивает внимание на индивидном [254]. Строго говоря, у единичного нет языка, на котором оно могло бы себя выразить (что было тематизировано поэзией романтизма). Оно противоречит самой сущности знаков, призванных быть общим достоянием множества лиц (individuum est ineffabile). Между тем единичность – реальность каждого из тех, кто погружен в авторефлексию, всех нас. Словесное творчество разрешает эту апорию, используя знаки не по их прямому назначению, – как если бы они были в состоянии воссоздавать то, что на самом деле несказуемо. Они указывают на реальность, не будучи предопределены к означиванию исключительного. Несмотря на то что они подставляют одни значения на место других, они знакомят нас с миром не ложным, а таким, который мы воспринимаем – на основании нашей собственной неповторимости – как и впрямь существующий. Художественный знак не фиктивен, он фигуративен, тропичен таким образом, что подразумевает истину, прячущуюся за неистинной, условной внешностью высказывания. В ходовых терминах, литературный текст фикционален. Другие искусства сходны с литературой в том, что прибегают к условным экспрессивным средствам (изобразительным, звуковым, перформативным). То, что говорилось о литературе, допускает экстраполирование на смежные с ней искусства. Искомая величина для литературы не бытие, как для философии, а бытующий в своей особости (пусть индивидное и становится здесь часто – под воздействием не приспособленного к его запечатлению языка – образцово-типовым). Литературный дискурс общезначим (максимален по смысловому объему), преподнося человека увиденным с персонологической точки зрения. Ценность отдельных вкладов в дискурс с таким конститутивным свойством обусловливается тем, насколько сами они оригинальны, отвечая своему экземплярному предмету изображения. Автор эстетически отмеченного высказывания не просто посредник в переброске традиции из прошлого в будущее, как то постулировали Элиот и вслед за ним теоретики постмодернизма, а тот, кто заново начинает миротворение, делая его воспроизводимым и для других авторов. Литература заражает будущее духом инновативности. Тогда как философия – это ведущаяся неизвестно откуда (из «бездны», считал Хайдеггер, из неэксплицированного социокультурного инобытия, сказал бы я) речь о повсеместно данном (включая сюда и предзаданность человеку креативной способности), в литературе мы имеем дело с quasi-демиургическим актом, развертывающим перед нами мир в процессе его выстраивания. Индивид вправе вести в литературном дискурсе речь от собственного лица (лирика), обмениваться репликами в диалоге с другим индивидом (драма) или быть воспринятым со стороны (повествование).
Если философия вынашивает в себе sensus universalis, а литература – sensus privatus, то содержанием политического дискурса выступает sensus communis, тот смысл, которым человек наделяет свое социальное здесь-и сейчас-бытие. Общество связывает каждого из своих участников с прочими членами. Любой из интегрированных в нем индивидов идентифицирует себя, отправляясь от другого, дополняет самотождественность инотождественностью. Этот Другой, пусть он и «генерализован», не дальний, не всечеловек, а ближний, тот, с кем индивид, как разъяснял Аристотель в «Политике», находится в общении. Становясь инаковыми себе, мы принуждаемся к ролевому поведению, попадаем в theatrum mundi. Политический дискурс занят выявлением того, что означает уступка самостью господства над собой Другому. По Аристотелю, такая уступка взаимна: политика заключается для него в обмене, но не материальном, а спиритуализованном, в котором свободные граждане в стремлении к благу совместно утверждают примат души над телом. Никколо Макиавелли концептуализовал политику, в отличие от Аристотеля, односторонне – с точки зрения того, кто добивается от общества подчинения себе, кто оказывается Другим (чудовищем, «получеловеком» и «полузверем») для всех, на кого распространяется его могущество. У Томаса Гоббса эпитропа принимает вид делегирования людьми, отрекающимися от самоволия, власти «смертному богу», государству, которое берет на себя обязанность защищать их собственность и жизнь. Жан-Жак Руссо обрисовал социальное существо как отчуждающееся от себя под взглядами со стороны, как теряющее естественность, понятую положительно в пику Гоббсу, усматривавшему в ней причину «войны всех против всех». Как видно из примеров, политический дискурс в основополагающих это речеведение текстах центрируется на превращении (сценическом по своему существу), в результате которого из индивида с его личным имуществом и волей к самоутверждению resp. из человека в его первозданности образуется homo socialis (неважно, отправляет ли тот власть или подпадает под нее).
В попытках воплотиться в жизнь философский дискурс оборачивается проектом, не переводимым в Dasein, терпящим при переводе крах, подобно Платонову государству стражей в Сиракузах либо ленинской коммуне в Советской России первых лет после большевистской революции (сущее не поддается манипулированию, всечеловеческое ниспадает в социальное в ущерб себе). По контрасту с философией литература способна быть инкорпорируемой, однако в стилизованной жизни (Юрий Лотман писал в этой связи о «поэтике поведения», а Стивен