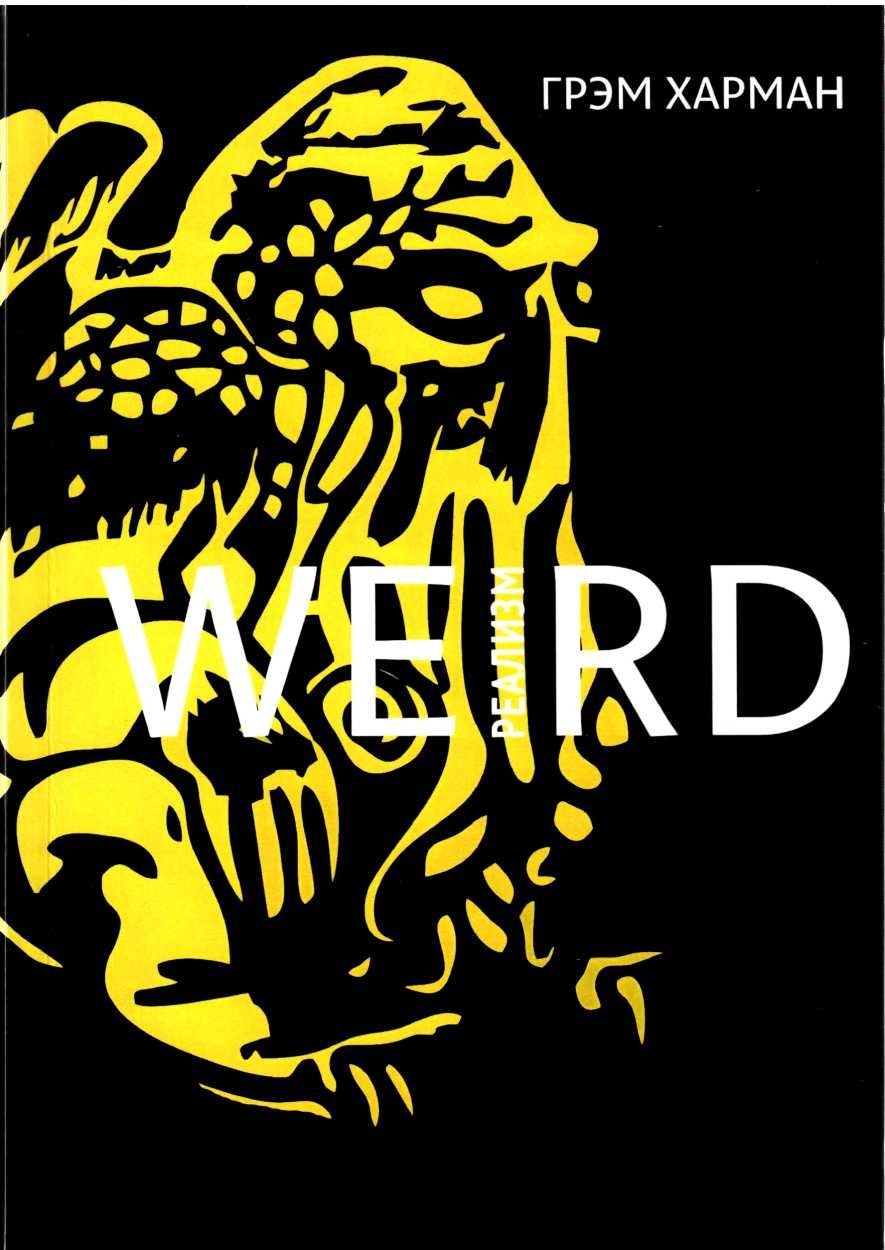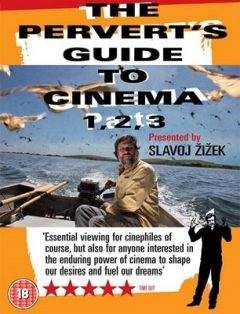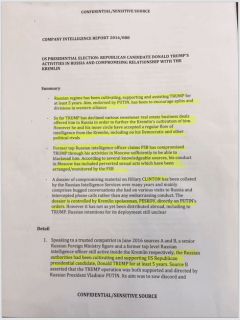указывает на само себя и создает себя только исходя из сложного поля дискурса» [193]. То же самое возражение работает, когда мы говорим о
творчестве (oeuvre) или о всей совокупности написанного каким-либо известным автором. Например, «существуют различные связи между именем Ницше с одной стороны и его юношескими автобиографиями, школьными сочинениями, филологическими статьями, „Заратустрой“, „Ессе Homo“, письмами, последними открытками, подписанными „Dionysos“ или „Kaiser Nietzsche“, бесчисленными записными книжками, где счета из прачечной перепутались с набросками афоризмов» [194]. Такие единства, полагает Фуко, «не возникают сами собой <…> они всегда являются результатом некоего построения», чьи «правила» нужно знать и чья «оправданность» должна быть проверена [195].
Хотя у Фуко и получилось убедить многих подобными аргументами, из перспективы ООО это рассуждение кажется слабым. Мы можем согласиться с тем, что все, вышедшее из-под пера Ницше, в юности или позже, должно оказаться в собрании его сочинений, исходя из соображений его полноты. Но даже в этом случае — и тут Фуко прав — не следует думать, что все им написанное имеет один и тот же статус. Специалисты будут стремиться достичь согласия по поводу того, какие из текстов Ницше действительно относятся к существенной части его карьеры в целом, к его зрелому периоду или же к какой-то иной более или менее осмысленной периодизации его труда. Конечно, согласия иногда недостает. Многие хайдеггероведы длительное время отказывали в серьезном прочтении «Самоутверждению немецкого университета», вдохновленной нацизмом ректорской речи Хайдеггера, считая ее неудачным и обескураживающим примером политической халтуры. Это, однако, совершенно не помешало Деррида, чья замечательная работа «О духе» рассматривает ректорскую речь как важную часть интеллектуальной деятельности Хайдеггера. Всегда будут идти ученые споры по поводу того, какой текст из произведений Гомера, Вергилия или Шекспира является наилучшим. Всегда будет борьба за то, что включить, а что исключить из собрания сочинений той или иной важной интеллектуальной фигуры. Опираясь на эти несомненные факты, Фуко делает поспешный вывод о том, что подобные явления «сконструированы», а именно, сконструированы людьми, а не исходят от самого объекта. Данный вывод, однако, ставит слишком высокую планку для объекта и слишком низкую для субъекта. Ибо, с одной стороны, в самом тривиальном смысле верно то, что без человеческого труда у нас вообще не было бы никаких книг. Нам потребовался определенный уровень ученого прилежания и проницательности в суждениях, чтобы получить в наследство и достаточно аккуратно собранные вместе диалоги Платона, и пьесы Шекспира, и продолжающийся (и явно небезупречный) проект вроде Gesamtausgabe Хайдеггера [196]. Всегда требуется работа человеческого ума для того, чтобы сформировать подобные собрания сочинений, особенно в ситуация, подобных случаю Платона, под чьим именем ходит множество диалогов, по всей видимости неподлинных. Или же в случае Хайдеггера, когда даже почерк автора выступает препятствием для корректной расшифровки его текстов. Но из того факта, что эти тексты, действительно написанные Платоном, не начинают светиться золотым сиянием, когда мы правильно их отбираем, не следует, что в работах Платона нет единства. «Конструирование», произведенное учеными людьми, не является произвольным и не мотивируется лишь соображениями, находящимися на человеческой стороне уравнения. Оно служит поиску настоящих платоновских текстов. Из невозможности окончательно узнать, какие из этих текстов действительно принадлежат Платону, не следует, что не существует никакого корпуса его подлинных сочинений, подобно тому, как невозможность узнать все свойства яблока не означает, что яблоко — это просто так называемое единство, сконструированное работой человеческой привычки.
Довод, критикуемый здесь мною, не только имеет немалое значение для Фуко, но и служит основой всей его интеллектуальной карьеры. Громко провозгласив, что он не станет «помещать себя внутри этих сомнительных единств», Фуко с воодушевлением сообщает, что таким образом «высвобождается целая область» [197]. Это «область безграничная, но которую все же можно определить: она образована совокупностью всех существующих высказываний (неважно, устных или письменных) в их событийном рассеивании и в инстанции, присущей каждому из них» [198]. Иными словами, то, что предлагает Фуко, — это не объектно-ориентированная онтология, но одна из наиболее часто предлагаемых ее альтернатив: «событийно-ориентированная онтология». Он продолжает: «Прежде чем мы убедимся, что имеем дело с наукой, или с романами, или с политическими дискурсами, или с творчеством отдельного автора, или даже с книгой, мы должны будем рассмотреть в первичной нейтральности тот материал, который представляет собой популяцию событий в пространстве дискурса в целом» [199]. Событие никогда не бывает неопределенным, но всегда состоит из целиком определенного набора отношений. Например, если мы решим рассматривать Кубинскую революцию как событие, а не как объект, это будет означать, что мы концентрируемся на всех конкретных действиях, которые произошли, а не на чем-либо, что можно было бы представить лежащим в глубине этих действий. Вот почему Фуко уверяет, что никто не пытается «обнаружить намерение говорящего субъекта, его сознательную деятельность, то, что он хотел сказать или же бессознательный процесс, проявляющийся помимо его воли в том, что он сказал, или в почти незаметном изломе произнесенных им слов…» [200]. Напротив, «под очевидным дискурсом мы отнюдь не пытаемся расслышать едва слышный лепет другого дискурса…» [201]. Концентрация на действительно сделанных высказываниях и на действительно случившихся вещах, во избежание всяких спекуляций относительно истинных намерений или более глубоких движущих сил любого исторического события, может в некоторых случаях оказаться оригинальным методом. Результатом такого решения могут стать мощные интуиции, вроде предложенных акторно-сетевой теорией (также рассматривающей только действия) впечатляющих интерпретаций всего на свете: от карьеры Луи Пастера до отказов в работе новой запланированной автоматизированной системы парижского метро [202]. Однако методы есть формы познания и в этом качестве они выступают либо методами надрыва (как у Фуко и Латура), либо подрыва (как у Деннета, предпочитающего точные химические формулы более поэтичным методам винной дегустации). Философия же представляет собой контрпознание и контрметод и поэтому должна противостоять любой попытке смешать полезные методы постижения реальности с самой реальностью. Фуко неправ, когда говорит нам, что высказывание — «это всегда событие, которое ни язык, ни значение не могут полностью исчерпать» [203]. Как раз наоборот. Как только нечто оказывается определено как событие, оно сразу же выступает в виде весьма специфического набора отношений между различными сущностями и в таковом качестве исчерпывается путем сведения к совокупности определенных характеристик. Тот факт, что историки и прочие ученые могут исследовать данное событие, исходя из бесконечного числа разнообразных перспектив, не означает, что само событие неисчерпаемо: поскольку подлинно неисчерпаемыми, находящимися глубже всех и всяческих отношений, являются лишь объекты, и в указании на это состоит главная заслуга