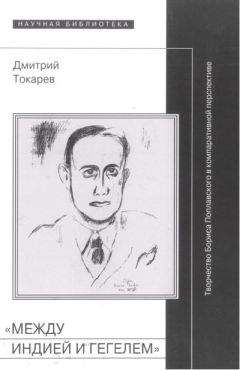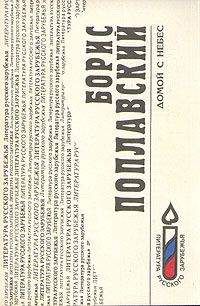Смелый образ Аполлинера — окно как апельсин — найдет свое соответствие в поэме Маяковского «Пятый Интернационал» (1922), где «мира половина» уподобляется синему апельсину[94], и в знаменитой строчке поэта-сюрреалиста Поля Элюара «Земля вся синяя как апельсин» (1929)[95]. Эта строка, ставшая, по выражению Т. В. Балашовой, «определенным кодом для иллюстрации сложных игр сюрреалистов с цветовой гаммой при неожиданном, „ошеломляющем“ сближении далеких красок»[96], отсылает в то же время к предшествующей авангардистской практике создания неожиданных метафор и сравнений, хотя ни образ, созданный Аполлинером, ни образ, созданный Маяковским, не являются в строгом смысле этого слова сюрреалистическими.
Действительно, Аполлинер строит образ, прибегая к тропу сравнения и задействуя тем самым референциальную функцию образа: образ соотносится с некоей реальностью, которая обладает внеязыковой природой; другими словами, один из элементов сравнения помещается в положение объекта. У Маяковского же механизм порождения образа определяется не только внеязыковой действительностью (земля, видимая сверху, кажется синей из-за цвета океанов), но и потребностями рифмы: «апельсиний» — «синий». Сюрреалистам и прежде всего Андре Бретону, утверждавшему, что «самым сильным является тот образ, для которого характерна наивысшая степень произвольности и который труднее всего перевести на практический язык»[97], подобные модели представлялись мало приемлемыми[98].
Характерно, что Поплавский, в отличие от сюрреалистов, никогда не стремился «упразднить» слово «как»[99], и по частоте употребления сравнение является одним из наиболее распространенных тропов в его поэзии. Использует он и возможности рифмовки: так, заменив в строчке «а в синем море где ныряют рыбы» слово «рыбы» на слово «птицы»[100] Поплавский получает неожиданный, как бы «сюрреалистический» образ[101], однако сама эта замена говорит, во-первых, о сознательной работе по выработке образа, во-вторых, определяется необходимостью зарифмовать первую и третью строчку строфы и, в-третьих, диктуется и общей семантикой текста[102].
* * *
Из более чем 20 стихотворений сборника «Граммофон на Северном полюсе» шесть были включены Поплавским в единственный опубликованный при его жизни сборник стихов «Флаги» (Париж, 1931). Стоит отметить, что ни одно из них не было «заумным». Поплавский взял те стихотворения, которые лучше всего соответствовали эстетике «Флагов», отсылающей уже не только к авангарду, но и к французской и русской поэзии второй половины XIX — начала XX века.
Зданевич, в тенденциозности которого не приходится сомневаться, спустя много лет писал: «Издатели искромсали текст как могли, ввели старую орфографию, выбросили все, что было мятежного или заумного, дав перевес стихам, в которых сказывалось влияние новых кругов»[103]. Под «новыми кругами» Зданевич подразумевает круги эмигрантские, которых «левые» авангардисты старательно избегали и куда Поплавского, обескураженного невозможностью напечатать сборники «Граммофон на Северном полюсе» и «Дирижабль неизвестного направления», ввел Георгий Адамович. Борис начинает посещать собрания «Зеленой лампы», «Кочевья» и «Франко-русской студии», становится активным автором «Чисел», «Воли России» и «Современных записок».
Сравнивая отзывы критиков, откликнувшихся на выход «Флагов», нетрудно убедиться в том, что поэтический метод Поплавского вызывал такие же разноречивые оценки, как и его личность. В целом критика была настроена доброжелательно, за исключением Владимира Набокова, посчитавшего, что Поплавский «дурной поэт, его стихи — нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом, словно человек живет безвыездно в том эстонском городке, где отпечатана — и прескверно отпечатана — его книга»[104]. Набоков, впоследствии жалевший о резкости своих суждений[105], уличил Поплавского в «крайне поверхностном знании русского языка», указав на явные шероховатости стиля, неправильные ударения («магазин», «свадебный»), манеру вставлять «между двумя конечными согласными полугласный» («корабель», «оркестер»).
Однако большинство рецензентов к «ошибкам» Поплавского отнеслись гораздо более снисходительно. Так, Михаил Цетлин писал в «Современных записках»:
Ошибки языка, неправильные ударения, такие слова, как «ленный» или «серевеющий». Протяженные многостопные размеры, порою те самые, которые любил когда-то Надсон. Образы, которые не трудно было бы перечислить (дети и ангелы, флаги и башни). Но знакомые размеры звучат своеобразно, оживленные необычным чередованием мужских и женских рифм, умелыми перебоями ритма. В бедности и приблизительности рифм соблюден тонкий такт. Своеобразно возникают, окрашиваются и сплетаются образы. И из всего этого, из этой бедной бутафории, почти что из ничего создается очень «декадентская» и очень оригинальная поэзия[106].
Главная опасность, подстерегающая Поплавского, состоит, по мнению Цетлина, в том, что в нем много «сознательной оригинальности манеры», что роднит его поэзию с «современными живописными исканиями, в которых так много творческой энергии уходит на поиски оригинальных приемов».
Марк Слоним, еще до выхода «Флагов» откликнувшийся на публикацию стихов Поплавского в «Воле России», также отметил, что у него «манера готова перейти в манерность»:
В его поэзии разлит «сладчайший яд» разложения, ущерба, в ней царствует «наркотическая стихия» — столь хорошо знакомая Сологубу и нашим русским декадентам и ранним символистам. Если Поплавский не найдет выхода из своего искусственного мирка с электрическими лунами, кораблями, башнями и детскими аллегориями, он начнет повторяться, слабеть и выдохнется, несмотря на чисто формальные достоинства своего стиха. У него и сейчас есть провалы, длинноты, темнота, глухое косноязычие, у него часто замечаешь отсутствие работы над собою — но в то же время видно, что учился Поплавский не у символистов, а у Хлебникова, Пастернака и всей молодой школы русской поэзии[107].
При этом Слоним, в отличие от Цетлина, утверждал, что «ущербность» поэтического метода Поплавского совсем не рассудочная. В другой рецензии, теперь уже на сборник «Флаги», Слоним объяснил «нерассудочность» поэзии Поплавского, отсутствие в ней логического смысла, ее непонятность, «невнятность» ее музыкальной природой:
Вся эта игра воображения, все эти то смутные, то неожиданно яркие сны живут и движутся стихией музыки, плывут по воле тех ритмических комбинаций, которыми владеет Поплавский. Музыка, т. е. тот элемент поэзии, который составляет ее первичную природу, все то, что словом сказать невозможно, что выше или ниже, но во всяком случае вне понимания рассудком и пятью чувствами — вот это и есть самое замечательное в стихах Поплавского[108].
Пожалуй, наиболее проницательным оказался Георгий Иванов, почувствовавший в стихах Поплавского «frisson inconnu» — «неизведанную дрожь»:
Да — в грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декадентствами, бесконечно путанном, аморфном состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией, в неунизительном для человека смысле. Не «гроза» и не «лунная ночь» — и не ребячески — дикарско-животное их преломление (степень физической талантливости ничего не меняет), а нечто свойственное человеку и только человеку, нечто при всей своей «бессознательности» и «безволии» проистекающее прямо (и исключительно) от крайнего и высшего напряжения сознания и воли, «бессознательное» уже «вторично», — на границе бессмертия — как бы крайняя точка прямой, на противоположном конце которой сосредоточено все «первичное», в том числе и всяческие «грозы» — внешняя прелесть жизни, переходящая в смерть, вернее, в тлен[109].
Иванов хорошо уловил, что у Поплавского бессознательное находится под контролем сознания и что «отсутствие работы над собой», за которое поэта упрекал Слоним, является сознательным приемом, скрывающим за собой огромную работу поэта по отбору и сортировке поэтических образов[110]. Вот как об этом пишет друг Поплавского Николай Татищев:
Музыка замутненная, непросветленный хаос, вот образ, невольно возникающий, когда стараешься вплотную подойти к этой поэзии. <…> У другого такой метод писания вылился бы в что-то бледное, неопределенно-расплывчатое, тусклое, в конечном итоге, — в пустоту. У Поплавского это жизнь, насыщенная содержанием, кровью, болью. Тайна ли в этом языка его, особого выбора слов, бесконечного обдумывания сотни раз переписанных в черновиках фраз, расчета, взвешивания и его абсолютного слуха, не допускающего и тени фальши в образах и ритме, чтобы не проскользнуло что-нибудь не свое, даром полученное, дешевое, не выстраданное? Так или иначе, это поэзия, где слова умышленно не точны (выбраны так, чтобы смертельно ранить в области сердца)[111].