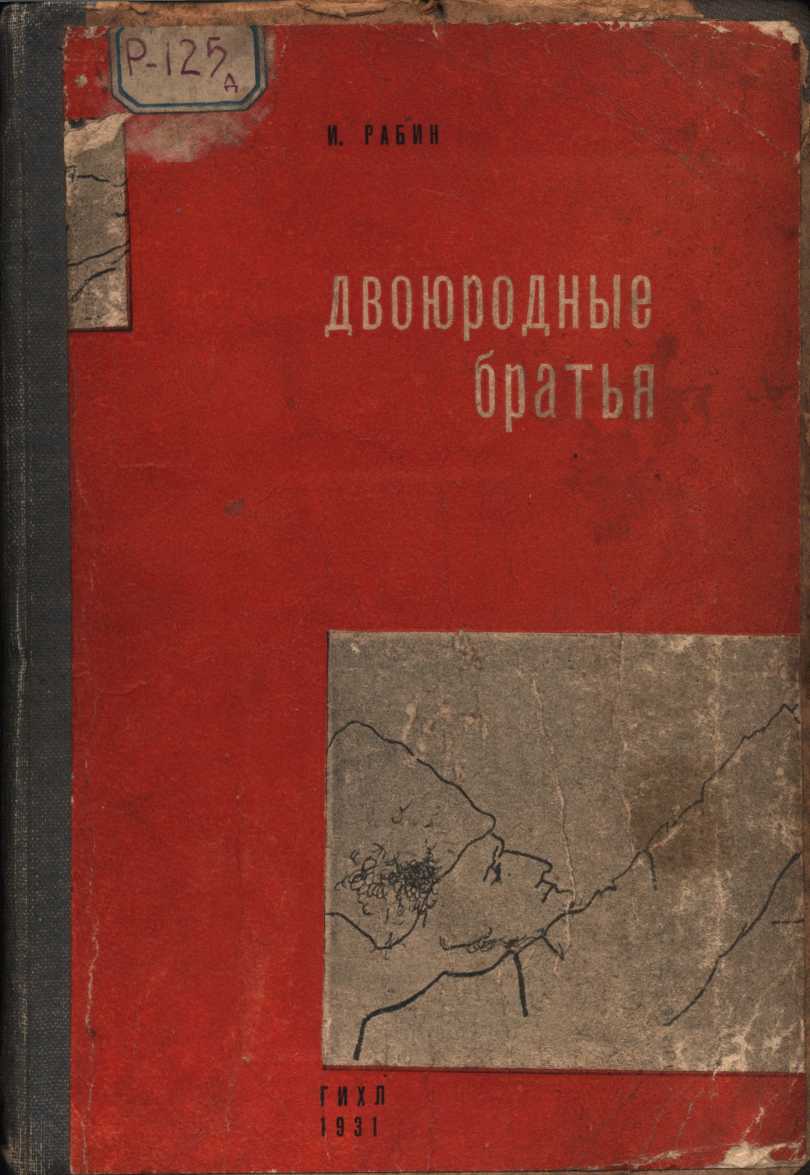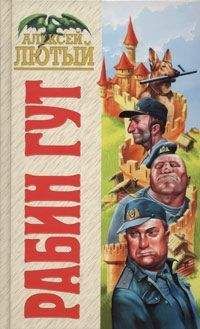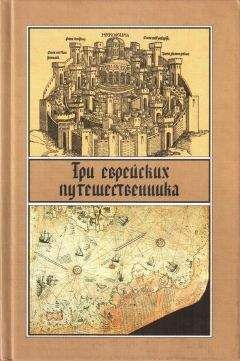не мешали торговать. Но обманывать, как это делали все торговцы, он не умел, так что не смог заплатить и за эти два мешка, к тому же он задолжал еще на похороны жены, и Элие-Шие решил послать своих дочерей работать на папиросную фабрику.
Первое время дочери приносили с фабрики по восьми пятиалтынных в неделю, а затем... привели женихов. Как это водится у людей, раньше вышла замуж старшая дочь. Ее муж остался работать на фабрике, а она перебралась в мучную торговлю отца. К муке она присоединила масло, сахар, сельди.
Потом вышла замуж вторая дочь и осталась работать на фабрике.
В год смерти отца обе сестры родили мальчуганов и разделили дедушкино имя: старшая дочь назвала своего сына Элие, младшая — Шие.
Обе сестры тогда уже затаили взаимную обиду. Укачивая мальчика, младшая рассказывала ему сказку о плохой тетке, захватившей торговлю.
Однажды обе сестры встретились на главной улице. Было это в канун субботы, сестры возвращались с базара. Старшая несла большую щуку, несла так, чтобы все видели эту щуку, как велика она, как свежа и дорога. Задрав голову, старшая тяжело и твердо ступала, стуча башмаками, и все обращали внимание и на нее, и на щуку.
Младшая застыдилась и покраснела. Ей казалось, что все видят в ее кошелке мелкую рыбешку, годную только на галушки! Едва коснувшись кошелками, сестры разошлись каждая в свою сторону. С той самой встречи сестры больше не видались и не показывали друг другу своих сыновей. Изо дня в день возрастала их злоба.
Потом сестры умерли. В городе говорили о фамильном пороке, который помешал женщинам этой семьи дожить до «своих» лет.
Тогда только двоюродные братья познакомились и стали друзьями.
Серые глаза у товарища Ильи, серые и беспокойные на солнце, а в тени, или в дни, когда солнца нет, глаза у него темные, карие, и через очки, со шлифованными четырехугольными стеклышками, они кажутся трепещущими огоньками. То, что глаза его на солнце серы, а в те дни, когда солнце — потухшая и остывшая печь, кажутся мерцающими огоньками, первой заметила его жена.
Теперь по утрам она продает газеты на широком проспекте главной улицы, выкликая новости и происшествия.
Иногда вставало воспоминание: поле, глубокая трава и час полуденного зноя, и над полем, над ними рассыпалась золотая копна волос. Он был молод и не носил очков. Она была тогда моложе и любила его. Из лесу плыл запах смолы, воздух был напоен этой смолой, оседавшей в глубокой траве, где они оба лежали и где она полчаса тому назад стала его женой.
Он лежал сытый и ленивый, с прищуренными глазами, греясь на солнце. Она придвинулась и вдруг сказала:
— Серые глаза! у тебя серые глаза, Илья! А я думала черные!
Это ее огорчило, и она подняла лицо к солнцу. Она теперь смотрела только на его брови,— густые, суровые брови.
Он устал или зол, — в этом она не могла разобраться. Она задумчиво молчала и неожиданно для себя спросила, устремив взор к лесу:
— Илья, ты меня действительно любишь?
Она не расслышала его ответа, возможно он вовсе не ответил. Потянулся, зевнул и, поднимаясь, сказал:
— Айда домой! У меня еще сегодня собрание.
Возвращались через поле, лес, и накаленные улицы города, и она чувствовала тяжесть в ногах и беспокойную дрожь.
В ту пору он был заготовщиком, а она переплетчицей, товарищи называли его Эли, а она — Илья. Теперь уже все называли его Ильей. Очки он носит с четырехугольными стеклышками и одет, как иностранец. В 1906 году, желая повидать свет и отвлечь от себя внимание полиции, он совместно с другими бежал за границу. Теперь он возвратился в старый город не то из Берлина, не то из Женевы и снова начал работать в бундовском комитете. Он руководит забастовками, он ведет переговоры с хозяевами.
Жена продает газеты, а дети бегают за ней по улице; каждого подзывает она к себе, вытирает ему нос и гонит домой. Но детям гораздо веселее на улице бежать за матерью и, подражая ей, выкрикивать новости.
К тому же теперь война.
Половина Польши уже истоптана немецким сапогом. Городские улицы набиты военными, городские дома заняты госпиталями. Из городов и местечек прибывают беженцы, а с фронта текут новости: тысячи немцев взяты в плен, немцы просят мира.
Кто-то с усмешкой в усах спросил:
— Кто же там остался, чтобы просить мира?
— Что значит?
— Что значит? Если число пленных, которых берут газеты, Не только больше немецкой армии, но и всего немецкого населения, тогда, я спрашиваю, кто же там остался, чтобы просить мира?
Никто не знает, от кого исходят слухи, но Илье все это нравится, он сам непрочь передать всякие истории, и все уверены, что он — их автор. И он, Илья, доволен, что этим его выделяют, он чувствует, что становится солиднее, значительнее, ибо в нем таится желание выделиться среди людей. Ему необходимы люди, и когда он находится в обществе, то ощущает большую, тёплую радость.
На старой железной кровати, носящей следы краски, валяется он до полудня. Встав, поедает завтрак, Который приготовила ему жена, но завтрак ему не нравится, и он недоволен... Потом идет к жене за газетой. Свою газету он получает бесплатно, но чего-то ждет.
— Мадам,— говорит он серьезно, — я дал вам пять десять копеек.
— Вы ошибаетесь, мой господин, — отвечает жена.
Но он не уходит; тогда она тихо и язвительно добавляет:
— Пропади ты с головой. Двадцати копеек тебе недостаточно на папиросы? Кто тебя обязан содержать? Детям ли на молоко, или тебя баловать деньгами... Уйди отсюда, я подниму скандал.
— Зато я завтра не возьму.
Она отворачивается и кричит изо всех сил:
— Сегодняшняя газета... 10000 пленных немцев!
Долго крики эти разносятся по воздуху, Илья же спешит в рабочую столовую. Там все знают его. Он получает свой бесплатный обед безработного и рассказывает за обедом о своих путешествиях за границу.
Он всегда начинает так:
— В Западной Европе... В каком-нибудь Берлине или Женеве немножко иначе, чем здесь, но, между нами говоря, я там себя сразу же почувствовал, как дома...
Люди входят и выходят. За столиками оживленно разговаривают. Стучат ложки и тарелки. В окна врываются снопы света.
Илья унесен куда-то своей фантазией. Вскоре ему становится ясно, что он