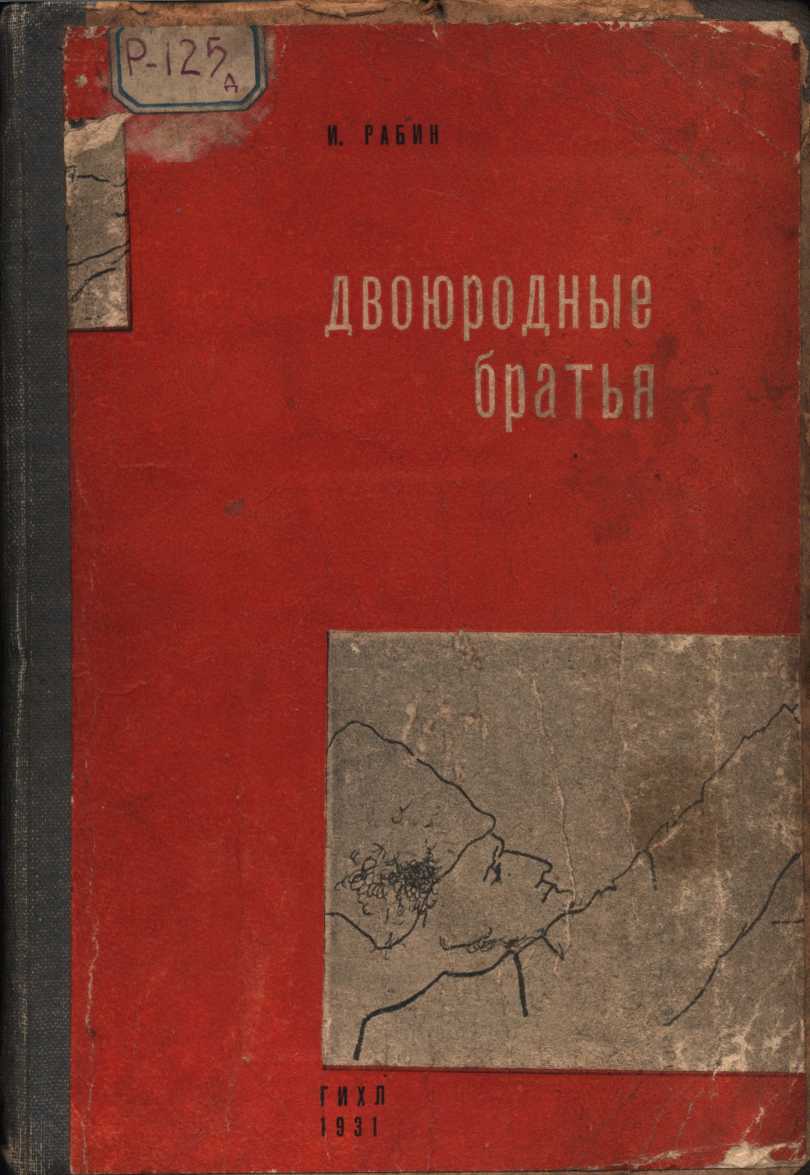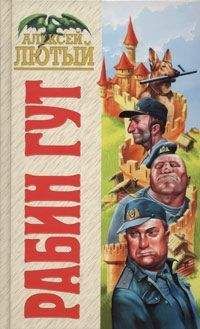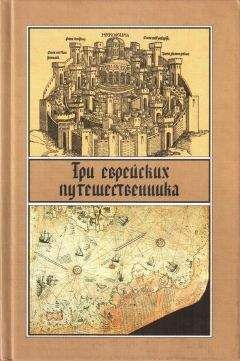обманув и изгнав последних. И осталось: «Зальцман с сыновьями».
— О, Элинке — важная персона... Вот что даже из свиньи могут сделать деньги! Пусть опухнет его голова, как опухло его брюхо.
Но Элинке не слышит ни хорошего, ни дурного. А приходящих к нему просить об услуге, он любит за
ставлять долго его упрашивать. И привычка у него — обвязывать пальцы веревкой, чтобы знать, толстеют ли они.
Иногда, среди беспокойного городского шума и сутолоки, вспоминает он сыновей. Три сына у него. Почему же все, да и сам он считает, что у него их только двое?
Возможно, потому, что младший не похож на старших. У него розовые щеки со светлым пушком. Шаги у него легкие и деликатные, словно он не касается земли,— он похож на ученого, и каждый может обнаружить те пять классов гимназии, которые он окончил. Или, возможно, потому, что его целыми днями нет дома, и дает он о себе знать только тогда, когда ссорится с сестрами, называя их «негодяйками».
Со старшим сыном Элинке держится как равный с равным, среднего он немного побаивается. Однажды в зимний день сын этот пришел в публичный дом, в окне которого церковно-славянскими буквами выведено «Свежая рыба». Был он пьян и подмышкой у него зажата была скрипка.
Он целовался со всеми и кричал:
— Клару сюда!
Откуда-то выскочила девица и повисла на нем:
— Зачем тебе Клара? Я лучше, смотри!..
— Пошла вон! И бросил ей монету.
Кларина комната была заперта, он стучал скрипкой, покрикивая:
— Ага! Так... С другим... С другим...
И приналег на дверь. Она со стоном распахнулась — и все увидели Элинке Зальцмана со стулом в руке. Все ждали. Но Элинке опустил стул, а сын крикнул:
— Папа! Это ты, папа!.. Тебе можно.
С этого дня Элинке питает уважение к среднему сыну — уважение и страх. Он зовет его не иначе как «мой умница» и oбo всем советуется с ним.
Сейчас Зальцман беспокоен. Средний сын не может дать ясного ответа, как ему вести себя с рабочими, которые хотят бастовать.
— Что ты на это скажешь, Арон?
— Ну их к чорту!
— Ну их к чорту, говоришь ты?.. Ты прав..: К тому же я еще сегодня увижу полицеймейстера... Ну их к чорту.
Пока что Элинке велел втащить бочку масла в сарай. У Зальцмана хорошая память, он помнит, как несколько лет тому назад забастовщики открыли бочку масла и оно потекло по двору. Он снует но большому двору, загроможденному дровами, где пахнет тухлыми яйцами и пряностями, заглядывает в склад, где соседствуют мука и мыши... От беготни и напряжения его шея краснеет, покрывается потом. Элинке сопит в вытирает затылок мокрым платком.
— Наташка, ванну!
Когда Элинке погружается в ванну, ему кричат из кондитерской:
— Папа, а папа, тебя кто-то спрашивает.
Этот «кто-то», высокий, в очках с четырехугольными стеклышками, похожий на иностранца, ждет.. В кондитерской сейчас никого нет. Белые столики чисто прибраны. Пирожные дремлют под светлым тюлем, и только огромная муха гулко бьется о стекла. Зальцмановская дочка, сидящая обычно у столика лицом к витрине, поворачивается к пришельцу, поправляет свою прическу и блузку и, сладко улыбаясь, спрашивает во второй раз:
— Вам нужно к отцу?
У обеих дочек Зальцмана курчавые черные волосы, они носят длинные красные сережки и светлые платья.
Похожи они друг на друга, как дамы в карточной колоде.
По вечерам, когда закрывается кондитерская, Зальцмановские дочки одевают яркие платья и идут в городской сад. Гуляющие долго провожают их внимательными глазами. В больших серебряных ридикюляхсестер лежат заранее заготовленные записки (десять копеек берет мальчишка, чтобы передать записку офицеру). Содержание записки таково: «Мы хотим: познакомиться с вами». Русские офицеры оглядывают серебряные сумочки, длинные красные сережки и принимают предложение девиц.
Война — и офицеров в городе столько же, сколько и жителей. Сестры выбросили из своих ридикюлей записки,— им уже не нужно итти в городской сад искать знакомств. Офицеры развозят их на автомобилях, девушки посещают военные вечеринки и маскарады.
— Ах, сколько знакомств, все умоляют нас...
На этих маскарадах и вечеринках они помогают отцовским делам: поставке провианта для армии. И, может быть ради этого стоит сберечь улыбку для офицеров, которых здесь так много и которые так однообразно разговаривают и смеются. Сестрам уже не хочется таскаться с этими офицерами, у которых одинаковые лица, приедающиеся, как сладости отцовской кондитерской.
Зальцмановская дочка бросила на вошедшего теплый взгляд: «Красивый молодой человек, в заграничных очках...» Она оглядела его и, подойдя к большому трюмо, улыбнулась и протяжно, певуче спросила в третий раз:
— К папе?
Спохватившись, добавила:
— Лично к нему или вообще?
— И лично и вообще...
— Мы еще не знакомы... Ну, будемте знакомы.— Она протянула руку. Она улыбнулась ему, он ответил улыбкой, блеснув огоньками глаз из-под густых, суровых бровей. Но вспомнив, зачем пришел, почувствовав, что необходимая твердость и замкнутость ускользают, отдернул руку. Ее рука осталась висеть в воздухе, словно обиженная. Зальцмановская дочка держала так руку нарочно, чтобы ясна стала невежливость молодого человека.
Он это понял. Он также сообразил, что все, что он теперь скажет, будет глупо, но так как сказать что-то надо было, чтобы не оставить плохого впечатления, то он проговорил:
— Ваша рука сладка.
— Отцовской сладостью?
— Вашей собственной.
Довольная, она улыбнулась.
В кондитерскую вошла женщина с газетами подмышкой.
— У вас есть остатки?
— Есть...
Зальцмановская дочка выскребла из ящика куски торта, пирога, бисквита. Женщина с газетами несколько раз взвешивала в руке пакет, разглядывала его и, внезапно обернувшись к «иностранцу», сказала:
— Илья, ты это, может быть, возьмешь с собой?
Он удивленно посмотрел на нее, словно не понимая.
— Нет, я этого не покупаю!
Женщина схватила пакет и выбежала.
— Вот как... Она предложила вам это купить?.. А мне показалось... На что способны эти женщины... Может, вы действительно попробуете наши пироги?
Из комнаты послышались тяжелые шаги.
— А, папа!
И к гостю:
— Я надеюсь, мы увидимся...
— Да, да, и я надеюсь!
Илья вторично пришел к Зальцману. Он сел на стул, не дожидаясь приглашения, и сказал:
— Пане Зальцман, через полчаса я должен получить ваш ответ.
Он произнес это твердо и строго, с той твердостью, которая всегда обнаруживается в нем, когда он является представителем других. В такие минуты он чувствует, что все те, от имени