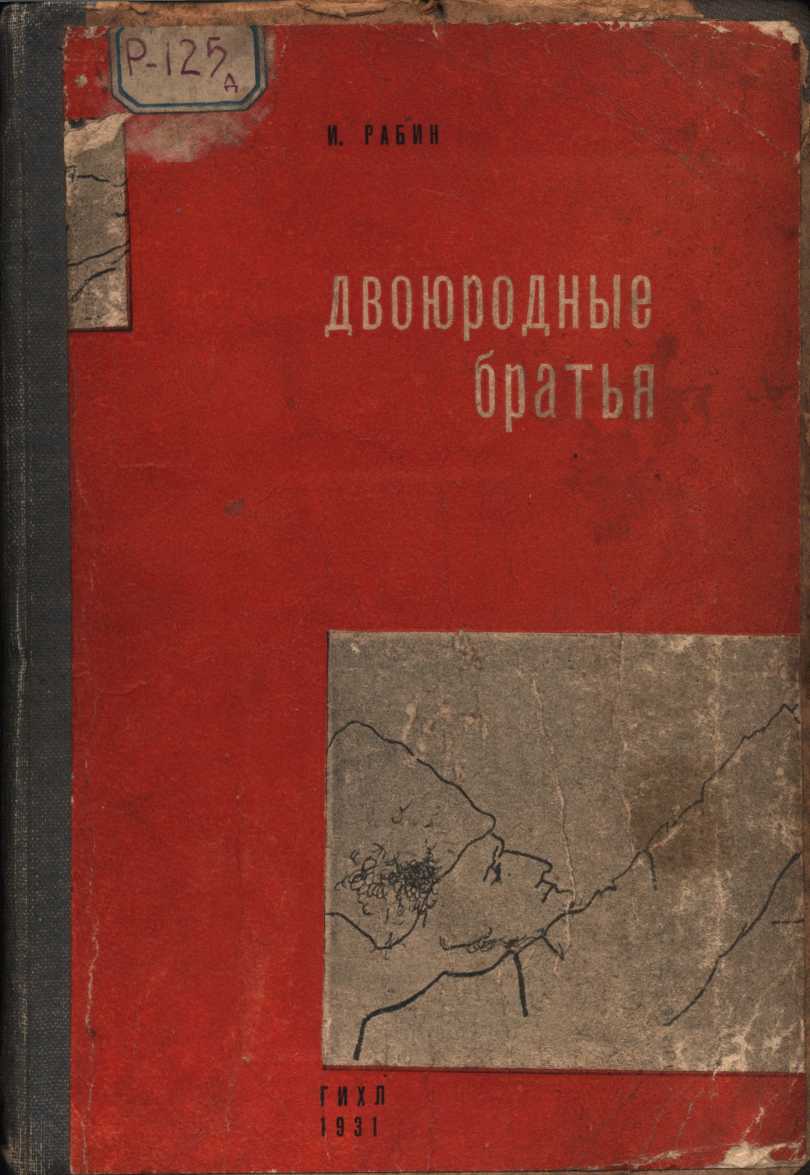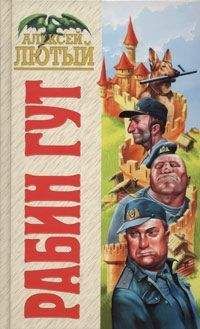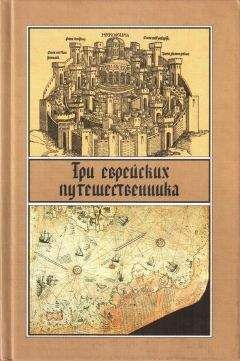улицам тянутся обозы... Мужчины прячутся, чтобы их не погнали рыть окопы, девицы боятся выйти на улицу из-за казаков, которые с гиканьем и свистом грабят базар. Солдатские песни «Чубарики-чубчики» и «Соловей пташечка» достигают чердаков, и прячущиеся мужчины тихо подпевают:
Соловей, соловей, пташечка,
Города теряет Николашечка,
Немец прет —
Города берет!
Он чувствовал себя утомленным в тот вечер, когда выслали Зальцмана. Здесь, в комнате, с женой и детьми, он чувствует себя, словно оторванный от мира, и, сам не зная, почему, жалеет Зальцмана.
Ведь он мог выиграть забастовку, и тогда можно было бы что угодно сделать с Зальцманом. А теперь... И что они против Зальцмана имели? Так хорошо началась забастовка.
— Понимаешь, Малке, понимаешь... Мой расчет был правильный. Он бы лопнул, но удовлетворил наши требования. Он бы лопнул, говорю я тебе... И должен же был чорт вмешаться.
Илья почувствовал, что ему необходимо с кем-нибудь говорить. Где найти теперь товарищей? Товарищей нет, а он знает наверняка, что не сможет успокоиться всю ночь.
Забастовка была уже объявлена, когда он встретил зальцмановскую дочку на улице. Он отвернул голову, но почувствовал, что ее глаза впиваются в него, и, любопытства ради, обернулся. Она улыбалась и светилась весельем. Вопреки своему желанью он остановился.
— Папины дела меня не касаются.
Он ответил с улыбкой:
— Я полагаю.
После этого они долго бродили, сначала ему было неловко, потом захотелось нравиться. Он шутил, рассказывал о своих путешествиях за границей. Поздно ночью он проводил ее до дому. Она горячо и крепко пожала ему руку.
— Благодарю, я восхищена... Так интересно привела время. Вы достойны поцелуя.
Проворно повернулась, быстро поцеловала и исчезла в воротах. Он остался стоять у закрытых ворот, вспомнив, что надо спешить домой. Несколько раз обозвал себя «идиотом» за то, что стоял, как истукан, когда его целовала девушка. Однако он надеялся, даже был уверен, что еще встретит ее.
— Почему вы не спите, дети!.. — раскричался Илья.— Что вы как червяки ползаете под ногами и не даете слова вымолвить.
— Что ты хочешь от детей и кто тебе мешает разговаривать? — возразила Малке с досадой, — Бегаешь по комнате, немой, как стол. Дети! Идите спать... Что ты хотел сказать, Илья?
Он ничего не хочет сказать, ему нужны товарищи, чтобы поговорить, но товарищей нет, и ему надо молчать и не думать. Расхаживая по комнате, он от ничегонеделанья решает: хорошо, если бы уже немцы пришли.
Этим бы, думает он, закончился какой-то отрезок его жизни. Он бы начал сызнова. Пусть придут.
И от, этой мысли ему легче, веселее, он говорит жене:
— Как ты думаешь, немцы скоро придут, Малке?
Ночью ушел последний поезд. В последний раз он пронзительно свистнул в ночной тишине, в последний раз крикнул среди немых вокзальных зданий и осторожно двинулся, словно за покойником.
В городе эта ночь без солдатских шагов, без лая собак была особенно тихой. Над улицами висел странный, застывший покой, и этот покой вызвал настороженную дрожь.
Что-то слишком тихо...
Рано утром город остался без хозяина,— ни русских, ни немцев: город предоставлен самому себе. По тихим улицам люди ступали неуверенно, еле касаясь земли. От тишины и неуверенности в чьей-то голове зародилась мысль: не может быть, чтобы оставили город без хозяина, беспризорным и вольным, наверняка где-то прячется армия, дожидающаяся немцев. Точно электрический ток, разнесся этот слух по городу, и улицы опустели.
Но через несколько часов поднялись шум и беготня, все спешили увидеть немцев, которые входили в город с цветами в петлицах и с «улыбкой для дам».
Был Судный день. С мешками талесов1 подмышкой бежали евреи глядеть немцев.
1 Молитвенное одеяние.
Мойше Майонтек, разговаривая с одним немецким генералом, выяснил, что немцы деликатны и охотно вступают в разговор.
Среди этого шума незаметно суетились два человека.
Одного звали Ильей, второго — Шустер Шие, оба с красными бантами в петлицах, они бегали вокруг немецких солдат, стараясь узнать, кто из немцев — социал-демократ.
ПОД ВЫВЕСКОЙ НА СЕМИ ЯЗЫКАХ
Глубокая осень распростерлась над городом. Прохладные утра и унылые вечера. Хмурое небо с медным солнечным диском. Над домами из труб поднимается дым.
Такими вечерами в городе раздумывают о том, что выйдет из затеи немцев, вводящих хлебные талончики, о том, как относятся крестьяне к реквизиции ржи. Но жестяная голова города — жестью крыты дома — не может додуматься ни до какого решения, и не знаешь, чем бы согреться и утешиться в эти вечера, когда грустные мысли набегают, как люди в очередь у хлебной лавки.
Однажды утром разнесся радостный слух: открылась дешевая рабочая кухня. Над дверью большого здания повесили вывеску на семи языках: еврейская рабочая столовая.
Здесь всегда толпился народ.
А когда наступили морозы и снег улегся на городских крышах, людской гам наполнял столовую, затянутую густым паром от супа с утра до позднего вечера. Под звяканье ножей и вилок здесь читали газеты, расспрашивали о работе и играли в шашки. А иногда большая обеденная комната разбивалась на отдельные партийные уголки, и за столиками шла борьба партийных программ и партийных гимнов.
Хозяином столовой был Бунд. Бундовские работники обслуживали столовую, они же вывешивали лозунги. Кроме портретов Карла Маркса и Переца на стене висел еще портрет Бронислава Гроссера.
Остальные партийные уголки, а их было мало, часто объединялись против Бунда, выставляя своего оратора. Один из членов эс-эсовского 2 уголка приходил в столовую исключительно по субботам. Его втихомолку называли «субботником». Он управлял большим аптечным складом, имел толстую жену, которая разговаривала с детьми по-французски, и носил звонкую фамилию — Лондон. У него серьезный вид, длинные, до ушей, волосы и черные искрящиеся глаза, улыбающиеся и оживленно бегающие. Свои речи он начинает так:
— Товарищи, если мы раскроем книгу еврейского рабочего движения и захотим проследить дебет и кредит еврейских партий, нам станет ясно, что эс-эс...
Никакие речи однако не помогают, тогда он Отбрасывает назад волосы и усмехается.
— Приведите-ка сюда Шию, Шию Шустера, приведите сюда кассира...
Шустер Шие — кассир рабочей столовой.
Взъерошив волосы, Лондон усмехается. Ведь этот чудак Шие ведет свою почетную родословную от «Искры» и может среди прочих имен, называемых бундовцами, упомянуть имя Ленина. Лондон начинает говорить с