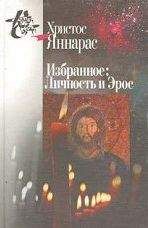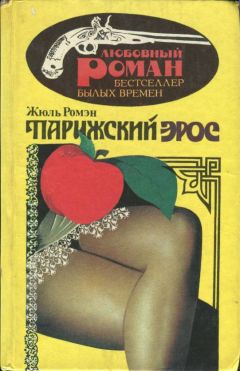Беллерофонт – живая метафора слепой зоны эроса: на лице его (красота) и в руках (дощечка) – сообщения, которые он не может расшифровать. Текст остается для него в скрытом, сложенном виде – и буквально, и метафорически. Если табличку раскрыть, обе стороны сложатся в одно значение, абсолютно неконгруэнтное с фактом действительности: Беллерофонт (живой). Это то самое значение, которое является глаголом и которое будет действовать, чтобы приписать Беллерофонту новый предикат (мертвый). Значение, чей обновленный смысл не заслонит полностью ни старый смысл, ни разницу между ними (ведь в смерти жизнь видна, хоть и отсутствует). Значение – слепая зона, в которой знания Беллерофонта о собственной участи растворяются в самих себе. Если бы Беллерофонт развернул дощечку и прочел сообщение, то, подобно людям, сталкивающимся с загадкой (о них нам повествует Аристотель), мог бы воскликнуть: «Выходит, я дал маху». Он бы испытал мучительную боль. А также спас бы себе жизнь. Если мы хотим оставаться в контакте с возможным, к таким моментам придется возвращаться.
«Не кто иной, как сам Беллерофонт понес письмо, в, если можно так выразиться, трагической манере, пойманный за собственные крылья», – говорит Евстафий, один из античных комментаторов «Илиады». Но он слишком мудрствует. Ведь в гомеровском изложении никто Беллерофонта не «ловил». По прибытии ко двору ликийского царя он вручает проклятое письмо, а потом развенчивает его содержание, совершая несколько подвигов, и получает в награду другую царскую дочь в жены. О сложенной дощечке больше не упоминается. Легко просматривается, к примеру, возможность рассказать историю Беллерофонта с точки зрения Антеи, что стало бы основой для написания трагедии (ср. «Ипполит» Еврипида). Хватило бы материала и для хитросплетений любовного романа о Беллерофонте и его ликийской невесте. Но таких историй «Илиада» не рассказывает. Герой Гомера – воин и победитель. Любовь занимает его лишь эпизодически. Более того, попытка символической трактовки заканчивается разочарованием. Беллерофонт в итоге побеждает благодаря доблестям, а не разворачивая собственную метафору. Изначально интерес Гомера состоит не в загадках инференции и референции, волнующих умы романистов и поэтов следующих эпох: автор эпоса был занят войной. Да и написание символов на вощеной дощечке Гомера не занимало. Подобно Беллерофонту, он передал послание и забыл о нем. Почему Беллерофонт не прочитал табличку? Он был нелюбопытен? Неграмотен? Не решился взломать печать? Те же вопросы можно задать и Гомеру. Какое он, поэт древней устной традиции, имел отношение к эпизоду с буквами и любовными треугольниками, происходившему в Ликии? Мог ли он сам истолковать знаки, которыми пользовался?
Не знаю, где взять ответы на эти вопросы. Кажется, внутри истории о Беллерофонте и убийственном послании хранится окаменелый мощный метафорический потенциал, но как его оттуда извлечь – ну разве что с помощью чрезмерной интерпретации. Тем не менее, история дает пищу для размышлений о грамотности и ее влиянии на людей. Миф о Беллерофонте, как уже было сказано, происходил из тех времен, когда ликийское общество имело некую форму чтения и письма. Миф собрал воедино некоторые черты античных романов, которые мы исследовали выше. К примеру, это история любви, где эрос действует посредством сложенного текста; эротическая ситуация включает двоих, до тех пор, пока влюбленная не усложняет ее, добавляя третью сторону; делает она это при помощи написанного текста; вместе с написанным текстом в сюжет проникают элементы метафоры, инференция, парадокс и акт воображения: эти элементы образуют слепую зону в центре истории и внутри ее героя, Беллерофонта, и в слепой зоне исчезают вопросы, которые мы хотели бы задать и персонажу, и его создателю, Гомеру.
Можно ли сделать какой-то вывод из этого раз за разом повторяемого в разных жанрах слияния таких элементов с феноменом грамотности?
Похоже, когда автор начинает размышлять о чтении и письме и применять их, его воображение направляется по определенным траекториям, а ментальный ландшафт освещается под определенным углом. Роман как жанр развивался, приспосабливаясь к этой траектории. Глубоко внутри истории Беллерофонта некое до-Гомерово воображение также двигалось под этим углом. Отсюда возникает особое, непреодолимое удовлетворение, когда мы читаем. Сам Гомер не исследует и не использует это удовлетворение так осознанно, как это делают романисты, и все же, читая его версию истории, мы в какой-то степени оказываемся ближе к ключевому вопросу.
То есть к вопросу о взаимоотношениях читателей и того, что они читают. Мы уже вспоминали знаменитые слова Франчески из Дантова «Ада». На ум приходят другие, схожие сценарии – так, у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
…Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя…
(Гл. 3)
Как реальные, так и придуманные авторами читатели могут подтвердить притягательность написанных слов. Романистка Юдора Уэлти, вспоминая свою мать, писала: «Она читала Диккенса с таким настроением, что казалось, готова была бежать с ним» (One Writer's Beginnings, 1984, 17). Сам Диккенс вряд ли бы стал переживать, если бы узнал, что вызывает у читательниц подобные чувства, о чем можно судить по его письму Марии Биднелл, написанному в 1855 году. В нем он рассказывает о романе «Дэвид Копперфилд» той, что стала прототипом Доры: «Возможно, раз или два, отложивши книгу, вы подумали: “Как, должно быть, сильно любил меня тот мальчишка, и как живо помнит о любви этот мужчина!”» (Slater, 1983, 66). Через Татьяну, через Франческу, через Марию Биднелл, через мать Юдоры Уэлти электрический ток эроса просачивается с написанной страницы. Вы и сами его ощущали, читая Данте, или Гелиодора, или Сапфо. Сможем ли мы дать более реалистичную оценку этому феномену? Что же такого эротического в чтении и письме?
Реалист
Некому больше со мной спорить – и моя жизнь стала пресной.
Королева Виктория после смерти принца Альберта
Но любит Эрот борьбу и тешится он такими удачами, какие происходят вопреки ожиданиям.
Харитон, «Повесть о любви Херея и Каллирои»
Нет ничего нового в том, что любое высказывание в каком-то смысле эротично, как и в том, что весь язык на определенном уровне отражает структуру желания. Уже Гомер употребляет одно и то же слово (mnaomai) в значении «помнить, думать о, обращать внимание» и «ухаживать, добиваться, быть поклонником». Уже в древнем греческом мифе одна и та же богиня (Пейто) придает убедительности речам и оратора, и обольстителя. Уже в самой ранней метафоре «крылья» и «дыхание» несут слова от говорящего к слушателю, а эрос – от влюбленных к возлюбленным. Но слова, которые написаны и прочтены, внезапно и остро помещают в центр внимания границы языковых единиц и тех единиц, что зовутся «пишущим» и «читающим». Туда-обратно через границы проходит символическое взаимодействие. Как гласные и согласные символически взаимодействуют, чтобы создать то или иное слово, так и пишущий и читающий соединяют половинки одного значения, а влюбленные и возлюбленные совпадают, как половинки символа. И возникает тайное соглашение. Созданное значение – личное и подлинное, и имеет вечный и совершенный смысл. В идеале, разумеется.
В реальности же ни читатели, ни влюбленные не достигают ничего подобного. Слова, которые мы читаем и пишем, никогда не говорят всего, что мы хотим сказать. Те, кого мы любим, никогда не бывают ровно такими, какими мы их желаем. Две половинки кости, symbola, никогда идеально не совпадут. Между ними втискивается эрос.