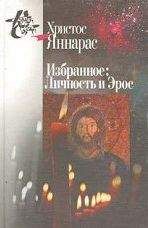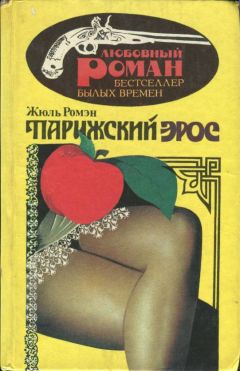Так что пока вы наблюдаете за таянием льда, ваш интерес к нему может смениться заботой иного рода. Лед может перестать быть «новым» даже до того, как поменяет свое агрегатное состояние. Удовольствие может перестать быть приятным и новым, а значит и быть, собственно, удовольствием. Внезапно законы физики, управляющие явлениями вроде таяния льда, пересекаются с куда более тонкими психологическими закономерностями, от которых зависит то, как человеческий разум порабощается новизной настроений и мод. Новизна – то, что затрагивает разум и чувства; таяние – физическое явление. Каждое из них измеряется по шкале, которая зовется временно́й, однако задействованы два типа времени. Где дилемма новизны пересекается с дилеммой льдинки? Что нужно влюбленному от времени? Если бежать по лестнице дня в обратном направлении, может ли новизна вновь усиливаться? А желание – вновь замерзать?
Давайте присмотримся, как Софокл изловчился втянуть нас в эти вопросы. Сравнение со льдом – механизм искусный и коварный. Оно создает в центре стихотворения тревожную неопределенность, вовлекая в конфликт наш разум и чувства, а также ощущения. Мы опираемся на физический факт таяния льда – в какой-то степени именно лед является главным героем сравнения, и мы наблюдаем, как он гибнет. В то же самое время нас волнуют руки детей. Лед холодный, и чем дольше его держишь в руках, тем сильнее они мерзнут. Но эта тревога напоминает нам и о другом: чем дольше держишь лед в руках, тем сильнее он тает. Так не будет ли рациональнее положить его на землю, чтобы спасти и руки, и сам лед? Но именно льдинка в ладонях вызывает детский восторг новизны. В этом месте наших рассуждений в них вмешивается время и, по Одену, покашливает. Время – условие как восторга, так и гибели. Время приводит природу льда к фатальному столкновению с природой человека, так что в определенный момент кристальная притягательность льда и человеческая восприимчивость к новизне пересекаются. Один момент времени (эстетических событий) пересекается с другим (временем физических явлений) и смещает его.
Есть тут и чувственная сторона. Софокл изображает время в виде тающего льда. Этот образ выбран не только ради драматургичности и душещипательности, но и в силу своей истории. Как читатели греческой лирики, мы обнаруживаем здесь характерный эротический топос, поскольку поэты часто изображали желание как жар, вызывающий таяние. Ведь эрос расплавляет члены (lusimelēs). Вот фрагмент из Пиндара, яркий пример традиционного образа:
ἀλλ᾽ ἐγώ τᾶς ἕκατι κηρὸς ὣς δαχϑεὶς ἕλα̨
ἱρᾶν μελισσᾶν τάκομαι, εὖτ᾽ ἂν ἴδω
παίδων νεόγυιον ἐς ἥβαν·
…Таю, как тает под вгрызающимся пламенем
Воск священных пчел:
едва я увижу юную свежесть отроческих тел…
(Snell-Maehler, fr. 123, 10–12)
Обычно, как мы видим по отрывку Пиндара, таяние в определенной степени желанно, причем контекст – жаркий огонь наслаждения. Софокл же ниспровергает этот образ. Наблюдая за его тающим льдом, мы понимаем: конвенциональные реакции на образ таяния неуместны. С точки зрения традиционного влюбленного, таяние доставляет особое, горько-сладкое наслаждение. А у того, кто наблюдает за таянием льда, ощущения иные, сложнее. Их почти удается спроецировать на экран традиционного образа таяния – почти, но не совсем: между образами втиснулся эрос. Это он связан и с конвенциональным образом, и с новым, и от этого голова начинает кружиться.
Опрокинув нас в головокружение, Софокл буквально тащит нас обратно к вопросу времени. Начинается его сравнение с парадокса ощущений: мы почти видим непростой образ горячего льда. И сравнение приводит нас к противоречивому ответу: чтобы спасти лед, нужно заморозить желание. Хотеть этого невозможно – но этого хочется.
Но Софокл тащит нас вновь не только к проблеме времени, но и к проблеме слепой зоны. В его стихотворении время закольцовывает желание, и образ тающей льдинки демонстрирует, как желание вращается внутри времени. Вращается на оси эфемерности: ограниченное длительностью дня (ephēmeron), оно растает вместе с его угасанием. Но дни идут за днями, и желание вращается по оси новизны: как влюбленный, вы втягиваетесь в головокружительное «снова и снова». Хотеть этого невозможно – но этого хочется. И это каждый раз нечто абсолютно новое.
Как продемонстрировал физик Гейзенберг, некоторые знания разного рода не могут удерживаться в разуме одновременно (к примеру, положение частицы и ее скорость). Сходство желания со льдом у Софокла втягивает нас в такое знание и тем самым раскалывает мысленный образ так же, как влюбленный расколот парадоксом желания. Миг, когда вы оказываетесь на стереоскопической лестнице, пытаясь понять стихотворение, – довольно удачная имитация эротического разделения. Софокл много раньше Гейзенберга, кажется, осознает, что одновременно мы можем думать или только о времени, или только о желании. И вот точка, где возникают дилеммы, где лестницы словно опрокидываются: эрос.
Сейчас Тогда
Я без конца обращаюсь к отсутствующему с речами о разлуке с ним, ситуация в общем и целом неслыханная; другой отсутствует как референт, присутствует как адресат. Из этого необыкновенного разрыва рождается какое-то невыносимое настоящее время; я зажат между двумя временами, временем референции и временем адресации – ты уехал (о чем я жалуюсь), ты здесь (поскольку я к тебе адресуюсь). Теперь я знаю, что такое настоящее, это трудное время, беспримесный участок тревоги [63].
Ролан Барт, «Фрагменты речи всюбленного»
Переживание эроса – урок двойственности времени. Влюбленные вечно ждут. Они ненавидят ждать; они любят ждать. Зажатые между этими двумя чувствами, влюбленные начинают много размышлять о времени и очень хорошо его понимать – на свой превратный манер.
Влюбленному кажется, что желание, едва появившись, в ту же секунду разрушает время и собирает в себе все остальные моменты в их неважности. Однако одновременно влюбленный как никто другой воспринимает разницу между «сейчас» своего желания и всеми другими моментами, выстраивающимися позади и впереди него и называющимися «тогда». Один из моментов «тогда» содержит предмет любви. Этот момент удерживает его внимание, головокружительно вызывая разом любовь и ненависть: нечто вроде этого испытываешь, читая Софокла про тающий лед. Истинное желание влюбленного, как нам демонстрирует кусочек льда, – избегнуть законов физики и зависнуть в двойственности времени и пространства, где отсутствие является присутствием, а «сейчас» может включать в себя «тогда», не прекращая при этом быть «сейчас». Влюбленный «зажат между временами», по Барту, и с этой точки зрения глядит на «сейчас» оценивающим взором и с замиранием сердца. Как бы он хотел подчинить себе время! Но на самом деле время господствует над ним.
Или, скорее, Эрот использует время, чтобы управлять влюбленным. Влюбленный в греческой лирике с редкой откровенностью и некоторой долей иронии взирает на собственную зависимость от времени. Он видит: он приколот к невозможной двусмысленности, жертва одновременно новизны и многократного возвращения к одному и тому же. Повсюду в греческой лирической поэзии присутствует явный признак того, что поэты понимали превратности времени. Этот признак заключается в одном-единственном слове, которое в микрокосме представляет временную дилемму эроса. Это наречие dēute. Всякий читатель древнегреческой поэзии заметит частоту и остроту, с которой используется это наречие. Поэты любви предпочитают его любому другому указанию на время. (Ср.: Алкман, fr. 59 (a) 1; Сапфо (LP, fr. 1.15, 16, 18; 22.11; 83.4; 99.23; 127; 130.1); Анакреонт (PMG 349.1; 356 (a) 6; 356 (b) 1; 358; 371.1; 376,1; 394 (b); 400.1; 401.1; 412; 413.1; 428.1).) Какой же момент времени обозначается наречием dēute?