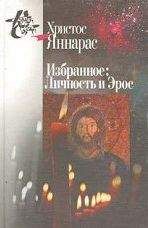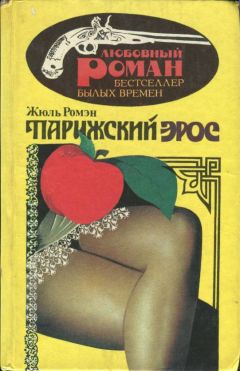Мидас
Сократ подкрепляет утверждение о том, что Лисий – плохой автор, аналогией с надписью на могиле. «Это очень похоже на надпись на могиле Мидаса Фригийца», – говорит он о рассуждениях Лисия и тут же цитирует эту надпись:
Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι κεῖμαι.
ὄφρ᾽ ἄν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθὴλῃ,
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου,
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.
Медная девушка я, нахожусь на могиле Мидаса.
Здесь я, покамест струится вода, расцветают
деревья.
Буду все это время лежать на могиле печальной,
Путникам всем возвещая прохожим,
что здесь лежит Мидас.
(Phdr., 264d)
Сравнение весьма удачное на нескольких уровнях, поскольку как форма, так и содержание надписи воплощают то, по мнению Сократа, чему не стоило бы доверять в написанном слове; также он не преминул посмеяться над самим Лисием. По сути надпись представляет собой эпитафию: сообщение о смерти и вызов вечности. Она обещает предъявить вечности один неоспоримый факт в неизменной форме: Мидас умер. Говорит она голосом девушки, вечно юной и гордо отрицающей власть над собою времени, перемен и жизненных процессов. Она отстранилась от Мидаса: он мертв, она – буквы.
Помимо того, продолжает Сократ, у этой эпитафии есть одна примечательная особенность. Каждая ее строка не зависит от остальных ни по содержанию, ни по размеру, так что, в каком бы порядке ни читать эти строки, смысл останется примерно тем же:
ὅτι δ᾽ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατόν τι λέγεσθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ἐγᾦμαι.
Ты замечаешь, я думаю, что нет никакой разницы, читать ли в надписи тот или иной стих раньше, или после другого.
(Phdr., 264е)
Именно эта деталь выглядит насмешкой над Лисием. Совершенно очевидно, что стихотворение, строки которого взаимозаменяемы, сопоставляется с речью, начинающейся там, где ей бы следовало заканчиваться, и лишенной всякой связности в процессе изложения. Но давайте при сопоставлении текстов сосредоточим внимание на тех реалиях жизни, которые при этом проступают. Эпитафия Мидаса содержит несколько характерных деталей, сходных с теорией любви, излагаемой Лисием в своей речи.
Подобно не-поклоннику Лисия, слова эпитафии утверждают себя вне времени и объявляют свою непричастность к миру тех, чья жизнь быстротечна. Именно на этой разнице не-поклонник по Лисию основывает свое моральное превосходство над влюбленным. Достигается эта разница уходом от момента, который влюбленный воспринимает как «сейчас»: от момента желания, в котором влюбленный теряет над собой контроль. Не-поклонник, точно так же, как слова на могиле Мидаса, смотрит в будущее. Отстраняясь от момента желания, он тем самым отстраняется и от своих чувств и может рассматривать все моменты любовной связи как равнозначные и взаимозаменяемые. Ни эротическая теория Лисия, ни его речь не признают необходимости какой-либо упорядоченности во времени составляющих ее частей. Так и слова на могиле Мидаса тоже выходят за пределы временного порядка как формой, так и содержанием. Будучи неизменными, они обещают своему читателю то же самое, что Лисий возлюбленному – неизменность и постоянство перед лицом все изменяющего времени.
Теперь поговорим о самом Мидасе. Как мифологический символ Мидас заслуживает некоторого внимания, ведь надпись на его могиле повторяет ключевую, губительную ошибку, совершенную им при жизни.
С античной точки зрения его случай парадоксален. К примеру, Аристотель приводит его как пример абсурдности желания при наличии богатства:
καίτοι ἄτοπον τοιοῦτον εἶναι πλοῦτον οὗ εὐπορῶν λιμῷ ἀπολεῖται, καθάπερ καὶ τὸν Μίδαν ἐκεῖνον μυθολογοῦσι διὰ τὴν ἀπληστίαν τῆς εὐχῆς πάντων αὐτῷ γιγνομένων τῶν παρατιθεμένων χρυσῶν.
…такого рода богатство может оказаться прямо-таки не имеющим никакого смысла, и человек, обладающий им в преизобилии, может умереть голодной смертью, подобно тому легендарному Мидасу, у которого вследствие ненасытности его желаний все предлагавшиеся ему яства преврашались в золото [67].
(Pol., I, 3.11257b)
Мидас – метафора человека, который угодил в ловушку собственного желания, стремящийся коснуться и не касаться одновременно – точно так же, как дети со льдинками в руках в стихах Софокла. Идеальное желание – идеальная тупиковая ситуация. Что хочет желающий от желания? Четко и ясно: продолжать его испытывать.
Прикосновение Мидаса, обращающее любые предметы в золото, – вот мощный образ идеального, самоуничтожающего и самоувековечивающего желания. В этом смысле Мидас напоминает того самого дурного влюбленного, которого порицают в своих речах и Сократ, и Лисий – ведь своим прикосновением он губит то, что любит. Губит, обращая в золото. Заставляя застыть во времени. Так и злочинный влюбленный желает, чтобы живой организм его paidika навечно застыл в золотой поре, в расцвете юношеской красы, дабы идеально наслаждаться ею как можно дольше. Прикосновение Мидаса останавливает время и для влюбленного – его собственная эмоциональная жизнь застывает в моменте желания.
Платон не проводит прямых параллелей между Мидасом и влюбленным, который хочет остановить время; тем не менее образ Мидаса с большой вероятностью выбран им для того, чтобы сделать прикосновение Мидаса метафорой желания. Это важная метафора, поскольку она помогает выявить основное разногласие между теориями эроса у Сократа и у Лисия. Обе теории сходятся в том, что желание приводит того, кто его испытывает, к парадоксальным отношениям со временем. Обе теории находят, что конвенциональный erastēs решает проблему, прибегая к определенной тактике, пытаясь обернуть вспять течение физической и духовной жизни, увлекающее его возлюбленного дальше в жизнь. И Сократ, и Лисий признают пагубность такой тактики; а вот как лучше быть – в этом они не сходятся. Лисий при помощи придуманного им не-поклонника предлагает вообще сделать шаг в сторону от времени. Если проблему создает момент «сейчас», представь себе, что наступило «тогда» – и так ты ее избегнешь. Сократ отозвался об этой тактике как о попытке «плыть вспять» в своей речи (264а) и сравнил ее с jeu d’esprit на Мидасовой могиле. Но Сократ возражает не только против риторических приемов, он осуждает Лисия за то, что его взгляды – прегрешение против эроса (242е). Далее по ходу диалога выясняется, что он имеет в виду: Лисиева теория любви нарушает естественный ход физических и умственных перемен, которые свойственны человеку во времени. Что происходит, когда кто-то вздумает самоустраниться от участия в ходе времени? Платон приводит три образа, обозначающие три варианта ответа на этот вопрос.
Первый – сам Мидас. На могиле, как и при жизни, он окружен преходящим, в котором не может участвовать. Его трагедия началась с ненасытной жадности, а жизнь закончилась от нужды – этот парадокс явно отсылает нас к эротическому желанию. Но Платон лишь намекает на жизнь Мидаса и ее перипетии, так что, наверное, и нам не стоит выводить их на первый план. Нам нужно обратиться к еще одной разновидности существ, упомянутых в данном диалоге и разделяющих Мидасову дилемму как в общих чертах, так и в своем отношении к нужде.
Цикады
Цикады также проводят жизнь, моря себя голодом, пока не умрут оттого, что стремились к желаемому. Появляются они в диалоге как бы мимоходом: Сократ, переходя от темы к теме, вдруг слышит, как они поют наверху в ветвях. Он указывает на них Федру: