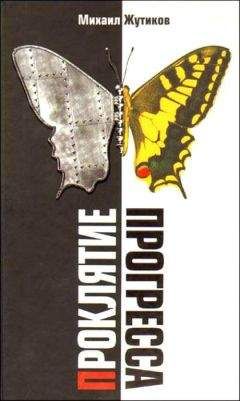38. В связи с этим помимо перемены технологической философии и параллельно с ее многосложными процессами важен своего рода «воспитательный тренинг» в различении зла в потребительских новинках, представляющихся нам удобствами: приобретаемые «блага» есть, как правило, лукавое отвлечение человека от жизни и ее ценностей, от Божьего мира, формирование в нем своего рода «наркозависимости», ведь в действительности в основе этих благ – та же (скрытая) паразитическая энергетика с ее дальнейшим погублением леса, воздуха, воды, биологических видов; это в действительности дальнейший подрыв оснований жизни. Либо жизнь и чистые реки, либо стиральный порошок, самолет и смерть. Эти «блага» нарастают и будут нарастать числом: лукавый спешит. Он бесится, потому что век его пришел. Нужно различать его беспокойное мельтешение в золотых обертках, глянце и гладких формулах «научных обоснований» и «бизнес-планов», укрывающих извращенную целевую установку, полную холодной жестокости, подлого расчета и агрессии к природе, со ставкой на низменность человека-животного, – такое не может остаться без наказания! Сегодня наука, обладая интеллектуальным превосходством, могла бы отвратить человека от направленности к безоглядному паразитизму: вместо того она поощряет в нем эту направленность.
39. Едва ли подобные новации могут быть в полноте инициированы односторонне каким-либо государством, ослабляя его в военном отношении и делая его посмешищем и легкой добычей. Не избежать исполнения дела «в мировом масштабе» – хватило бы всемирным чапаевцам ума для признания общих «заблуждений юности». И прежде других именно развитые страны – потребляющие более живого ресурса, производящие более энергии – обязаны приступить к демонтажу технологий, связанных с этим потреблением и выбросом чуждых земной жизни веществ, излучений, энергетического тепла. Невероятно также, что эти перемены исполнимы в течение короткого времени. Маховик, с превеликим рвением раскручиваемый в течение трех веков, едва ли может быть без осложнений заторможен много быстрее, чем за столетие. Отпущено ли нам столько? Как бы то ни было, время тормозить его приспело.
40. Но что за утверждение: «Человечество – неотделимая ветвь»? Это, пожалуй, скучно для грядущих веков? А то ли дело вылететь в космос и там расселиться по Венерам и Андромедам, а на Земле человечество приспособится кушать кремний! Или пустимся в океан и поселимся там – эвона сколько рыб зря плавает! Мы утрируем, но подобное можно услышать. Поверим для начала если не в возможность спасения, то хотя бы в то, что перед нами… пропасть? Скажем мягче: тупик. Мы считаем, что в таком случае обязаны реагировать, Божий же Промысел – спасти нас или нет.
Ну а как, в самом деле, быть с бесконечно разрастающимися потребностями и с бесчисленными энтузиастами прогресса, куда девать их – внедрителей виртуальных нирванн и овечек Долли, пускателей на Землю солнечных «зайчиков», сверлителей Каспия, заселителей Луны?
Вольно, нет ли «созидать» им далее – зависит и от приятия обществом диагноза происходящего. Не произвол философа-теоретика, но сама практика XX столетия обнажает для всех нас его суть: мы не приблизились ни на йоту к познанию реальной природы, но уже в полноте располагаем инструментами ее сокрушения. Для верующих «в разум» наступил решительный момент: никогда не бывало у оптимистов возможности получить столь бесповоротное подтверждение своей «веры в разум» – либо вместе с пессимистами попытаться подняться с потребительских карачек, обратиться из научного зомби, интеллектуального люмпена в человека, ответственного за живое.
Итак,
признание диагноза – пускай в виде не строго обоснованной аналогии;
признание в ряду других причин прямой вины научного метода;
согласие с возможностью самоизлечения Земли сменой общей сознательной установки;
признание в этой связи первичности природы и приоритетности ее интересов (соответственно, отказ от борьбы с нею и «вырывания тайн»);
ограничение вмешательства в нее только помощью – предоставляя неведомому оправиться самому;
избрание в качестве тактического средства постановку и решение частных (а не глобальных) задач;
переход в связи с этим самой науки от «взломной» функции к охранной, защитной —
таков, если угодно, предлагаемый набор довольно горьких пилюль для приема (поглубже) внутрь.
Не сберегший же землю, не сбережет и океан; не уберегший Землю, не убережет и Андромеду.
Русская душа как причина русской истории
В этом разделе мы сосредоточим рассмотрение на отрезке русской истории ХIХ – ХХ веков. Два эссе, так или иначе содержащие оценки ее крупнейшего явления – русской литературы, не являются ни персоналиями, ни исследованиями литературы как таковой. Исследованию в них подвергнуто то глубинное духовное противоборство, которое разрешилось крушением русской государственности. Поклонение идолу европейского прогресса обернулось и в этом частном – русском, а не планетарном – масштабе высвобождением колоссального потенциала зла.
Лермонтов, или Бабочка Брэдбери
– Нет, не может быть! Из-за такой малости… Нет!
На комке было отдающее зеленью, золотом и чернью пятно – бабочка, очень красивая… мертвая.
– Из-за такой малости! Из-за бабочки! – закричал Экельс.
Она упала на пол – изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино… большие костяшки… огромные костяшки… Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка – и такие последствия? Невозможно!
Р. Брэдбери[5]
Вся Россия застыла на какой-то окончательной точке, как бы колеблясь над бездной.
Ф. М. Достоевский
1
15 июля 1841 года по «старому» (юлианскому) календарю в седьмом часу пополудни по дороге в гору к Машуку (лохматая шапка туч укрывала его, сползая) прибыли на место в четырех верстах от Пятигорска дрожки с секундантами и двое верхами. Торопились: находила гроза. Около семи часов на небольшой поляне на склоне Машука к воткнутой кабардинской шашке, обозначавшей барьер, вышел, поднимая кверху правую руку с нарезным Кухенройтером (коренастый, с черными волосами округ выпуклого лба и черными усами – лицом, уже омоченным дождем, – снял свою пехотную фуражку, отдал другу Глебову? – полотняная забота правительства – один стоял против праведного гнева с детски опечаленными темными очами – что он чувствовал? – отчаяние, нетерпение, невозможность уйти? думал, может быть, о ком-то из близких, о матушке родимой, которой нет на свете – или думал о нужном, боевом – как заставить его дать по себе промах, может быть, взбесить, выжидая? – но исполнимо ли то на трех выстрелах кряду? – о выстреле Грушницкого, с издевкой над собою: так ли будет удачлив он сам, как Печорин? ой, нет! – испытывал ли соперника и судьбу в холодном любопытстве? – или уверен был в исходе и до последнего всматривался Художник – как прост исход, как обыденна реальность – вот хоть эта поляна без романических уступов и демонических затей, как клонятся намокшие, захмелевшие кусты боярышника и уходит наверх чудно зеленый, шумящий ветвями лиственный склон – прощаясь с ним, тревожась?! – как она тесна, и как буднично, в упор, уже почти минуту добротно целясь, смотрит тебе в очи то, что не осталось тебе жить и пяти минут – один, какой-то Мишель, перед силами тьмы и света – что ты? что человеческая жизнь? – или – сказать ли? – почуял звериной сутью своей, что должен подставиться, что без того не будет хоть вот этого нищенского нашего сожаления, нашего воя по нем, восстания из мертвых его – его, что смертию смерть поправ?) – и через краткое время сраженный пулей навылет из правого бока в левый от выстрела с пятнадцати шагов, произведенного приятелем по шалопайским трудам 25-летним отставным майором Николаем Мартыновым, в возрасте 26 лет 9 месяцев и 13 дней упал в траву, полную затихшей жизни насекомых, убитый наповал мальчик, не успевший исполнить из своего главного назначения почти ничего и в глазах окружения почти никто – потомок (как и Байрон) шотландского барда Лермонта, дитя (как и Герцен) страстной и угнетенной любви, изгнанник общества, сирота, одна из вершин человеческих возможностей, опальный русский поручик Михаил Лермонтов.
Ужасающее по своим последствиям событие оказалось (как это бывает почти всегда) оценено немногими судьями, большая часть которых (как это бывает всегда) одобрила событие. Был убит неприятный, малопонятный, много мнивший о себе и скверно отзывающийся о знакомых молодой человек, предсказавший себе сам скорый и дурной конец и получивший по своим предсказаниям и по заслугам. За год до этого он опубликовал роман о некоем Печорине – которого срисовал, надо полагать, с себя – в каковом романе опять же весьма гадко (впрочем, любопытно) обрисовал некоторых знакомых (о романе Государь отозвался, по верным слухам, весьма нехорошо…) – словом, был убит, разумеется, известный, но известный с дурной стороны человек.