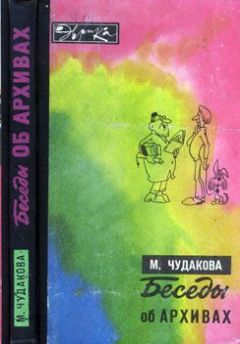Он должен непременно разыскать в самом себе ту точку своей личности, к которой все соберется, — и вместе с тем сохранить это раздельное видение разновременных своих ипостасей.
Это относится, впрочем, и к попыткам мемуариста нарисовать портреты других людей, среди которых могут встретиться и такие, чей жизненный путь был очень извилист. Здесь перед мемуаристом встает задача, напоминающая задачу историка и биографа. О трудностях ее разрешения говорит Н. Эйдельман в своей статье «Об историзме в научных биографиях», поясняя это на примере жизни М. Муравьева: «Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866) был, как известно, видным деятелем первых декабристских тайных обществ, одним из основателей Союза благоденствия. Арестованный в январе 1826 года, Муравьев содержался в заключении почти до самого конца следствия над декабристами, и любое свидетельство о контактах с Северным или Южным обществами, несомненно, привело бы его к ссылке в Сибирь вместе с другими осужденными революционерами (среди которых был его родной брат и немало других родственников). Судьба Михаила Муравьева висела на волоске, но ему «повезло»: за одно участие в первых тайных обществах не карали, Муравьева освободили, он поступил на службу, сделал карьеру… и стал «Муравьевым-вешателем», министром, одним из столпов реакции, крепостником, гонителем Польши, лидером правительственного террора против каракозовцев и т. п.
Историк, изучающий первые декабристские общества, не может, понятно, забыть о последующем превращении М. Муравьева в «вешателя», не может взглянуть на этого деятеля только глазами людей 1820-х годов: они не знали, кем станет декабрист Михаил Муравьев, он сам того не знал, но современный историк все это уже знает. Это знание «итога» может вызвать осознанное или невольное желание спроецировать итог на «исходные данные», с предубеждением отнестись к ранней деятельности М. Муравьева, находя в ней элементы «первородного греха», которые позже выяснились еще резче… Но, с другой стороны, нельзя и совсем отмахнуться от проецирования… ведь речь идет об одном и том же человеке, и какая-то преемственность между разными периодами его биографии, несомненно, была».
Памятливость относительно собственных воззрений в разное время своей жизни — одно из редчайших свойств человека и необходимая составная часть исторического сознания. Большой грех для мемуариста — путать имена и даты, но еще больший, быть может, — внушать читателю убежденность, что он, автор, всегда смотрел на вещи одним и тем же образом. Неоценимо важно уменье мемуариста восстановить ход своих прежних рассуждений, восстановить тогдашнюю свою шкалу ценностей! Доводы позднего разума — конечно, вещь тоже достаточно ценная и уважаемая и, конечно, не идет в сравнение с бессмысленным цеплянием мемуариста за прежний свой образ мыслей (оттого только, что он — «свой», что его утверждению отданы годы молодости и зрелости). Но мемуарист не вправе весь пыл свой тратить на защиту тех ценностей, в которые он нынче уверовал. Должно помнить, что он, и никто другой, обязан описать эпоху ему известную по меньшей мере в двух аспектах — такою, какою виделась она самой себе и какою видится она теперешнему зрению. Задача, которую он должен ставить перед собой, — описать и закрепить в исторической памяти образ мыслей и чувствований человека того времени, заглянуть поглубже в механизм собственного сознания, заставлявший его радоваться одним событиям, негодовать на другие, с равнодушием проходить мимо третьих.
Заглянуть в этот механизм не дано современнику — автору дневника: он описывает свои переживания как данность. Возможность эта является только впоследствии, когда возникает точка, находящаяся вне этой данности и позволяющая увидеть ее в целостности, возникает тот язык, которым можно описать известный круг миропонимания.
Человек, взявшийся писать мемуары, самой этой задачей принужден искать слова честные и недвусмысленные для передачи своих былых, самых странных, с нынешней его точки зрения, умонастроений. И нередко он приходит к мысли, что неясное уж лучше так и оставлять неясным, чем приводить к мнимой ясности. Доблесть мемуариста не в том, чтобы показать, как хорош и умен был он во все времена, а в том, чтобы увидеть себя во всякий момент беспощадным сегодняшним взглядом; среди прочего он должен увидеть и то, что именно в его личности оказалось той благодатной почвой, в которой легко укоренились и быстро пустили побеги предрассуждения и крайности его времени.
В дневниках время разворачивается перед нами как бы не видя себя; в мемуарах оно само глядится в собственное зеркало. Мы видим по крайней мере двойной (а на самом деле — бесконечно дробящийся, отражающийся в осколках нескольких зеркал сразу) его облик: мемуарист оценивает свое время, выносит ему приговор и несет на самом себе нестираемый его знак, им самим нередко неразличимый. Он стремится «сам» рассказать «о времени и о себе», но иногда уже выбор предмета и способ рассказа говорит о нем более того, что он задумал, и иное, нежели хотел сказать Время — в лице неизвестных нам наших же современников, пишущих сегодня дневники и мемуары, — уже ведет о нас свой рассказ в тот самый момент, когда мы пытаемся сказать о нем свое слово. Только из сплетения возможно большего количества этих до поры не слышных голосов противоречащих друг другу или подтверждающих и уточняющих друг друга документов — рождается впоследствии тот облик данного времени, который на какой-то момент кажется наиболее близким к «оригиналу» — до тех пор, пока появление на свет новых документов не внесет в эту картину существенных поправок. Потому любые, самые добросовестные и глубокомысленные мемуары не могут претендовать на роль окончательного, не подлежащего обжалованию приговора. Все мы — свидетели, но не судьи (правда, мемуарист всегда волен выбрать себе роль свидетеля защиты или свидетеля обвинения), мы даем показания на суде истории — который отнюдь не отодвинут в отдаленное, непредставимое будущее, а идет ежедневно, не прерываясь, — и должны во всяком случае стремиться к тому, чтобы не стать ненароком лжесвидетелями.
Все это не должно, однако же, внушить читателю мысль, что только высокие нравственные качества мемуариста способны сообщить его трудам историческую ценность Здесь нет однолинейной зависимости. Напомним «Записки» Ф. Вигеля — современника А. Пушкина, одного из «архивных юношей» (то есть чиновников, служивших в московском архиве Коллегии иностранных дел), которому Чаадаев издевательски писал: «Признайтесь, что вам самому показалось бы смешно, если бы кому-нибудь вздумалось не шутя говорить вам о том уважении, которым вы пользуетесь в обществе».
В начале своих мемуаров Ф. Вигель говорит об исторических записках, которыми «в наше время наводнен Запад Европы… Сии источники, иногда весьма мутные», могут, однако же, «составить величественный ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве». С самолюбивою ужимкой, со странной, как бы самоподдразнивающей велеречивостью объясняет автор свои цели и высказывает свои надежды. «Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся, тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, по крайней мере, долговечию». Написано им было около семи томов, куда вошли воспоминания о Н. Карамзине и В. Жуковском, о семьях Вяземских и Тургеневых, об Л. Хвостовой, А. Шаховском, о генерале Бетанкуре, о жизни А. Пушкина в Одессе и о «демоне» его А. Раевском… Записки эти Ф. Вигель читал в домах своих знакомых с неизменным успехом; за ними охотились, их переписывали. Впоследствии историк литературы М. Лонгинов писал: «Разочарованный, ожесточенный обстоятельствами жизни, страдавший еще больше от своего неуживчивого своенравного характера, он знал невыразимое наслаждение, находил великое утешение в своих воспоминаниях и сравнивал их опубликование с публикацией записок Сен-Симона, сделавшей их автора знаменитым после смерти…» В Энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона вместо перечня чинов и должностей о нем сказано так: «Вигель (Филипп Филиппович) — автор известных «Воспоминаний»…»
…Да, несомненно, любопытны могут оказаться и те мемуары, авторы которых вовсе не ставили себе задачи трезвой самооценки, да и не были к ней способны, вполне удовлетворенные и личностью своей, и биографией, Таковы, например, мемуары Николая Ивановича Греча человека весьма пестрой биографии. Автор первого «Опыта краткой истории русской литературы и «Начальных правил русской грамматики», выдержавших 11 изданий, редактор «Северной пчелы» и «Сына отечества», в котором печатались будущие декабристы, Н. Греч вскоре после разгрома декабрьского восстания стал литератором сугубо официальной складки. Последние годы своей долгой (он умер на 80-м году) и переменчивой жизни Н. Греч отдал главным образом мемуарному жанр».