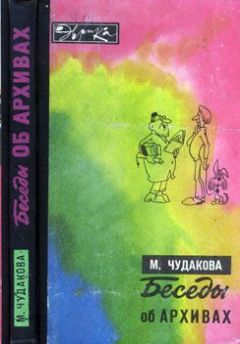…Да, несомненно, любопытны могут оказаться и те мемуары, авторы которых вовсе не ставили себе задачи трезвой самооценки, да и не были к ней способны, вполне удовлетворенные и личностью своей, и биографией, Таковы, например, мемуары Николая Ивановича Греча человека весьма пестрой биографии. Автор первого «Опыта краткой истории русской литературы и «Начальных правил русской грамматики», выдержавших 11 изданий, редактор «Северной пчелы» и «Сына отечества», в котором печатались будущие декабристы, Н. Греч вскоре после разгрома декабрьского восстания стал литератором сугубо официальной складки. Последние годы своей долгой (он умер на 80-м году) и переменчивой жизни Н. Греч отдал главным образом мемуарному жанр».
К своим «Воспоминаниям старика», посвященным эпохе Александра I, он приступил, разжигаемый негодованием на вышедшую в 1858 году книгу А. Герцена «14 декабря 1825 г.». «Гнусный беглец дерзает чернить своею пакостью даже людей достойных и благородных…
Долг всякого честного человека и гражданина русско го вступиться за правду и смело высказать ее пред светом и потомством», — писал возмущенный мемуарист.
Стремясь как можно яснее выказать свое отношение к заговору и к главным его вдохновителям, Н. Греч дает портреты 31 декабриста, которые, несмотря на обилие нравоучительных его замечаний и упреков по адресу повешенных и умерших в ссылке, сохраняют значение ценного исторического источника. Н. Греч, как и Ф. Булгарин, близко знал участников заговора. Они бывали в его доме, и Гречу приходилось выслушивать от своих молодых гостей щекотливые вопросы — о том, например, что бы он сделал, если б узнал о существовании заговора?..
Через много лет, рассказывая в воспоминаниях о скором своем «вытрезвлении» от либеральных идей, Н. Греч с гордостью воспроизводит свой ответ Ф. Рылееву («за хохол да и на съезжую») и вслед за тем замечательное разъяснение своих отношений с самодержавием: «Между царем и мною есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицу, зажигать фонари, а с меня требует только: сиди тихо! вот я и сижу». Н. Греч написал еще подробные «Записки о моей жизни» (не успев, правда, их закончить) и несколько мемуарных портретов. Среди них, быть может, любопытнее всего — воспоминания о Фаддее Булгарине, вызванные, по-видимому, желанием автора установить в глазах современников и потомков необходимую ему дистанцию между ним и многолетним его ближайшим сотрудником. Автор воспоминаний обещал: «Буду говорить и о себе сколь можно равнодушнее и правдивее». Но такой взгляд на себя ему удавался плохо; собственная жизнь невольно принята была за некий образец, за норму, когда с неподражаемой важной снисходительностью перечисляет он и пересказывает разнообразные бесчестные поступки своего соиздателя, временами принимает с некоторым самоотвержением его сторону, делает глубокомысленные экскурсы в историю развития дурных свойств его личности и роняет среди прочего характернейшее замечание: «Признаюсь, если бы я знал, каков Булгарин действительно, то есть каким он сделался в старости, я ни за что не вошел бы с ним в союз». Н. Гречу удалось нарисовать довольно яркий портрет Ф. Булгарина, но вместе с тем и свой собственный: чем более места отдано в воспоминаниях такого рода оправданиям, мнимо искренним признаниям и разнообразным наветам на врагов и полудрузей, тем рельефнее выступает личность того, кто с таким рвением стремится поведать, как «на самом деле» дело было.
Не достигая чаще всего желаемого им эффекта, автор этих мемуаров постоянно как бы достигает побочного — он выбалтывает нам о времени и о себе то, что рассказывать вовсе не думал, чего, может быть, сам в себе как следует не знал или в целях самосохранения приучился не видеть. Это дало его воспоминаниям своеобразную перспективу и объемность, едва ли не художественную, и потому, читая их, невольно сожалеешь, что слишком мало деятелей такой складки оставляют свои мемуарные автопортреты и нередко теряют, таким образом, предоставляемую им великодушной историей возможность заслужить у потомков слово благодарности…
В тридцатые-сороковые годы минувшего века всем в Петербурге было известно имя Павла Васильевича Анненкова
— Что бы ни говорили о разных типах мемуаристов, встречаются, наверное, натуры, будто самой природой, воспитанием и условиями жизни подготовленные для выполнения этой миссии.
— Расскажем об одном из таких людей. В тридцатые-сороковые годы минувшего века всем в Петербурге было известно имя Павла Васильевича Анненкова. Никакой определенной деятельностью не знаменитый, человек этот принадлежал к кругу друзей Н. Гоголя, В. Белинского, позже — И. Тургенева, А. Писемского…
Все они ценили его литературный вкус, нередко делали его первым читателем и судьей своих произвений и считались с его советами. Примечательно, что при всем этом сам П. Анненков, будучи глубоко образованным человеком, не испытывал серьезной потребноегк ни в одном роде литературной деятельности. Он писал блестящие критические статьи, но довольно редко и всякий раз, лишь склоняясь к просьбам редакторов журналов. Эту свою особенность он и сам отлично сознавал и с веселой прямотой писал одному из друзей, редактору журнала «Атеней» Е. Коршу: «задайте сами работу.
Я на выбор глуп. Нет у меня ни особенно волнующих дум, ни холерических, требующих настоятельно извержения мыслей. Таких людей следует водить на уздечке, и они иногда очень манежно могут пройти небольшое расстояние за своим берейтором. На это я именно и способен». Он пробовал писать повести — они не имели чувствительного успеха.
Один из братьев П. Анненкова был нижегородский губернатор, другой генерал-адъютант, петербургский обер-полицмейстер, Сам же он предпочитал карьере вольный, никакими обязанностями не связанный образ жизни. Его богатые именья позволяли ему много путешествовать, но и в путешествиях этих он никогда не следовал каким-либо специальным целям: «Терпеть я не могу вдобавок ни тех людей, ни тех земель, ни тех наук, ни тех мыслей, которых надобно знать, — писал он В. Белинскому. — Ничто такого отвращения не возбуждает во мне (…), как голая необходимость».
Сами маршруты его не подчинялись определенному плану, а менялись неожиданно и прихотливо, потешая друзей. «Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его «Unter-den-Linden», съездит в голый, еще не распустившийся «Thiergarten» — и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями, я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вызвал гомерический хохот у Тургенева.
Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, — пишет он, — по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом… Как? Этот человек, который мечтал только о том, как дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstriff».
Это отсутствие «жесткости конструкций», удивительная податливость к быстрым изменениям ближайших жизненных планов немало способствовали приуготовлению личности П. Анненкова к той роли, которая, как выяснилось впоследствии, назначена была ему в истории.
Исследователь литературно-критической деятельности П. Анненкова Б. Егоров пишет, что «ему явно не хватало жизненной воли, активности, целеустремленности, может быть, этим объясняются частые ситуации, когда он оказывался «ведомым» («нумером вторым», по терминологии Тургенева). Например, как можно судить по письму к Тургеневу от 7 января 1861 года, будущая жена критика Глафира Александровна сама убедила П. Анненкова в необходимости жениться и как бы предложила ему руку. Правда, справедливости ради нужно сказать, что вести себя он позволял достойным людям.
Так, в Риме в 1841 году он безропотно, в течение нескольких недель, отказываясь от туристских интересов, переписывал под диктовку Гоголя «Мертвые души». Летом 1847 года он отверг заманчивую поездку на Балканы, чтобы сопровождать больного Белинского по германским курортам…»
По описанию, оставленному самим П. Анненковым, и по его письмам этого времени можно судить, что с той же самой нерассуждающей легкостью следования душевному своему движению, с какой однажды повернул из Берлина на юг, гонимый жаждою «тепла, света, простора», кинулся он теперь из Парижа навстречу больному другу не затем, чтоб повидаться, а чтобы остаться при нем на все время лечения.
В октябре 1848 года, вернувшись в Россию, П. Анненков попадает в атмосферу «терроризации», вызванной страхом российского правительства перед революцией, охватившей Европу. Через много лет, составляя конспект своих воспоминаний об этом времени, П. Анненков записывал: «Салтыков уже сидит в крепости за свои повести, пересмотр журналистики и писателей…