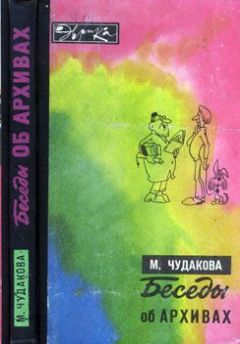По описанию, оставленному самим П. Анненковым, и по его письмам этого времени можно судить, что с той же самой нерассуждающей легкостью следования душевному своему движению, с какой однажды повернул из Берлина на юг, гонимый жаждою «тепла, света, простора», кинулся он теперь из Парижа навстречу больному другу не затем, чтоб повидаться, а чтобы остаться при нем на все время лечения.
В октябре 1848 года, вернувшись в Россию, П. Анненков попадает в атмосферу «терроризации», вызванной страхом российского правительства перед революцией, охватившей Европу. Через много лет, составляя конспект своих воспоминаний об этом времени, П. Анненков записывал: «Салтыков уже сидит в крепости за свои повести, пересмотр журналистики и писателей…
Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские работы за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты». Эти два года П. Анненков мало бывает в Петербурге — он занят делами своего расстроенного именья. Как всегда, он занимается понемногу, без особого запала, и литературной работой — печатает в «Современнике» «Письма из провинции». Как и прежде, эти живые, не лишенные наблюдательности очерки не вызывают особенного интереса читающей публики.
В это время, зимой 1849–1850 годов, Н. Ланская задумывает переиздать сочинения А. Пушкина и просит помочь ей в этом И. В. Анненкова — брата Павла Васильевича, — служившего под началом ее мужа и близкого к их семейству. Иван Васильевич вместе со старшим братом Федором Васильевичем стали убеждать П. Анненкова принять участие в работе по редакции издания, доказывая, что работа эта ему вполне посильна, а кроме того позволит братьям не платить денег чужому человеку.
Полковник лейб-гвардии Конного полка расчислил, что на эту работу уйдет у брата месяц времени («Все сие сообразивши, я полагаю, почему тебе не приехать сюда на один месяц и все что нужно написать и устроить…»), и недоумевал на его нерешительность. Между тем П. Анненков смотрел на все это совершенно иначе, его, по собственным его позднейшим признаниям, охватывали «страх и сомнение в удаче предприятия»; судя по ответным письмам брата, Павел Васильевич уверял его, что он осрамит свое имя, взявшись за непосильное дело, и, видимо, обвинял даже в неуважении к Пушкину.
Дело кончилось тем, что, к счастью для будущей истории литературы, П. Анненков взялся за работу над изданием — со страхом и неуверенностью в своих силах, восполняемой глубокой убежденностью в литературной и историко-культурной необходимости этого труда.
С этих пор жизнь его резко переменилась. Он обрел наконец, занятие, в которое погрузился целиком, которому предался со страстью и неизвестной в нем прежде устремленностью к единой цели. Он задумал сопроводить сочинения не биографическими «выносками» к каждому тому, как предполагалось вначале, а первым опытом полной биографии поэта. Для этого он первым делом принялся за перечитывание журналов 1817–1825 годов, которые разыскивал по частным библиотекам (в частности, в библиотеке В. Белинского, купленной И. Тургеневым у вдовы критика и целиком предоставленной им П. Анненкову для его работы), так как в Публичной библиотеке полных их комплектов не было.
Как впоследствии напишет академик Л. Майков, — «биограф придавал особое значение старинной журнальной полемике и справедливо искал в ней указаний на то, как постепенно слагалось в русском обществе воззрение на поэтическую деятельность Пушкина». Сейчас этот подход кажется естественным и необходимым для историка литературы; в середине прошлого века он был далеко не так привычен и говорил о высоком уровне историко-литературного сознания начинающего биографа. «Рядом со старыми журналами, — пишет Л. Майков, — другим важным источником служило для Анненкова живое предание». С этим источником дело обстояло сложнее всего.
П. Анненков занимался жизнеописанием Пушкина в то время, когда основания такого рода работы еще никому не были ясны, когда память о Пушкине казалась многим его друзьям частным их достоянием и вызывала настороженность к тому, кто претендовал на нее как на общенациональный фонд. Сама задача как можно более полного собирания всего когда-либо написанного или высказанного поэтом еще подвергалась сомнению и вызывала у некоторых современников опаску и нарекания. Так, один из ближайших друзей Пушкина С. Соболевский писал Н. Погодину: «Анненкова я тоже знаю, но с сим последним мне следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, коль неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей».
П. Анненков был первым в России, кто решился строить «биографию исторического человека» с таким широким захватом, вводя в нее материал и мемуарный, и исторический, и даже текстологические разыскания. Почти не имея перед собой образцов, сообразуясь главным образом с собственным нравственным и историческим чувством (а и тем и другим он был наделен в высокой мере), П. Анненков вырабатывал принципы научной биографии писателя, тогда еще не осознанные даже как проблема. И эта работа естественным образом вела его к мыслям о биографии эпохи, об обязанностях очевидца по отношению к будущим поколениям. Уже в 1856 году, собирая материалы для биографии Станкевича, он просил Боткина прислать его воспоминания об «историческом семействе» Бакуниных и, не сдержавшись, восклицал: «Боже мой! Какой клад объективная летопись, написанная, однако ж, очевидцем — и тогда, как уже личность совершенно высвободилась из событий, отношений и привязанностей. Вы, может быть, не поверите, что одна мысль о такой летописи дает мне какой-то род преждевременного наслаждения».
Труд, неожиданным и счастливым образом подчинивший себе человека, до той поры далекого от всяких деятельных систематических занятий, был завершен лотом 1853 года. Однако жизнь П. Анненкова уже вошла в новое русло, и он не спешил выходить из него. Начинался тот период его жизни, который и должен был дать ему «имя летописца эпохи». Много позже он напишет о А. Герцене, что для него «наступила та пора жизни, когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шел 35-й год)» — быть может, в словах этих заключена была память о том времени, когда его самого толкнуло вдруг к непривычно напряженной и глубоко его захватившей работе. Собирая документы Пушкина, он пользовался чужим материалом, беспрестанно понуждая друзей и знакомых поэта зафиксировать письменно свои о нем воспоминания, не дать им ускользнуть из стареющей памяти, а со смертью очевидца — уйти навсегда. Эта мемуарная лихорадка уже не оставляла П. Анненкова.
Он заторопился написать о людях, которых знал лично, чью жизнь следил с дружеским вниманием, с живым участием.
В 1856–1857 годах он пишет большую статью «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 г.», представляющую собой, в сущности, воспоминания о всем времени своего знакомства с Гоголем.
Воспоминания о Гоголе недаром избраны были им для наиболее полного высказывания взгляда своего на роль биографа и мемуариста. Плодотворность этого взгляда в применении к личности Гоголя была особенно несомненна, другим путем эту личность, казалось, невозможно было ни постичь, хотя бы отчасти, ни оценить.
П. Анненков убеждал биографа «смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как это было, с Гоголем между 1830 и 1836 годами, не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода…».
«Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 г., когда приступил к печатанию «Мертвых душ», — с хладнокровием свидетельствовал Анненков и, нимало не думая приносить покаяние за своего героя, наперед оледенил пыл возможных порицателей его поведения следующей замечательной сентенцией: «Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и в выражении своих чувств».
В 1870-е годы П. Анненков написал одну из лучших своих мемуарных работ — «Замечательное десятилетие (1838–1848)», без знакомства с которой, можно сказать без всякого преувеличения, эпоха эта не может быть понята.
Но главное место отдано в этих воспоминаниях личности В. Белинского и описанию того умственного пути, который прошел он в течение десяти этих лет на глазах его друга, столь далекого от него и по мыслям и по темпераменту. Если духовную эволюцию критика можно следить и по другим источникам, и прежде всего — по собственным его работам, то живой его человеческий облик вряд ли можно вообразить себе, минуя страницы П. Анненкова, описывающие отношение В. Белинского к своей семье, его неожиданное отвращение к полотнам Рубенса в Дрездене, его «удивленно-грустное» впечатление от Парижа, где все время он испытывал утомление «от зрелища мятущихся людей», целей и намерений которых угадать нельзя, и «не раз спрашивал у друзей: в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон и др.«…и, наконец, историю о том, как В. Белинский забыл свой халат, уезжая из Парижа… «За какие-нибудь четверть часа до отхода самого поезда, рассказывает П. Анненков, — мне вздумалось спросить Белинского: «Захватили ли вы халат?»