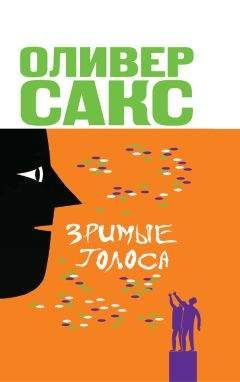Ознакомительная версия.
Мышление в жестах
Впервые я заинтересовался глухими – их историей, трудностями, языком и культурой, – когда мне на рецензию прислали книги Харлана Лейна. В особенности меня тронули описания жизни одиноких глухих людей, которым не пришлось овладеть никаким языком: их очевидная интеллектуальная ущербность и, что не менее серьезно, их отставание в эмоциональном и социальном развитии. Я задумался о том, что необходимо нам, чтобы стать нормальными человеческими существами? Зависит ли наша «человечность» от языка? Что происходит с нами, если мы лишаемся возможности овладеть языком? Развивается ли речь спонтанно и естественно или это развитие требует контакта с другими людьми?
Один способ, очень драматичный, – это исследовать проблему, наблюдая за человеком, лишенным доступа к языку; отсутствие способности к языку и речи в форме афазии стал одним из основных вопросов неврологии начиная с 60-х годов XIX века. Об афазии писали Хьюлингс-Джексон, Гед, Голдстейн, Лурия – даже Фрейд в 1890 году опубликовал монографию об афазии. Но афазия – это лишение языка и речи (в результате инсульта или иного поражения головного мозга), наступающее у человека, обладающего развитым сознанием, у сформировавшейся личности. Можно утверждать, что язык в данном случае уже сделал свое дело (если это так) и сыграл свою роль в формировании ума и характера. Если же мы хотим исследовать фундаментальную роль языка, то нам нужно изучать не его потерю, но невозможность его развития.
Мне было трудно вообразить себе такую ситуацию: у меня были больные, утратившие способность к речи, больные с афазией, но я не мог себе представить, как выглядит человек, который изначально не мог усвоить язык.
Два года назад в Брэйфилдской школе для глухих я познакомился с Джозефом, который впервые пошел в школу в одиннадцать лет, не владея языком. Он родился глухим, но этого никто не замечал до тех пор, пока Джозефу не пошел четвертый год[37]. Его неспособность говорить и понимать речь объяснили сначала «умственной отсталостью», потом «аутизмом», и эти диагнозы так и прилипли к нему. Когда наконец стало ясно, что ребенок глух, ему поставили диагноз «глухонемоты», сделав его немым не только буквально, но и метафорически. С тех пор никто не предпринимал серьезных попыток научить Джозефа языку.
Джозеф жаждал общения, но не понимал, что ему нужно предпринять. Он не умел ни говорить, ни писать, ни объясняться на языке глухонемых. Он мог общаться лишь с помощью изобретенных им самим знаков и мимики, а также отличался большой способностью к рисованию. Я не переставал спрашивать себя: что же с ним случилось? что происходит у него в душе, как он все это переживает? Это был непоседливый и смышленый мальчик, но на его лице было постоянно написано недоумение: он внимательно смотрел на шевелящиеся губы и на показывающие какие-то знаки руки – он буквально впивался тоскливым, как мне казалось, взглядом в наши рты и руки, не понимая, что означают эти движения. Он понимал, что между нами что-то происходит, но не мог постичь, что именно. Мальчик не имел ни малейшего представления о том, как общаться с помощью символов, он не понимал, как поток символов передает смысл и значение.
Прежде лишенный возможности, ибо никто с раннего детства не учил его языку жестов, и лишенный мотивации и положительного аффекта (то есть радости, которую доставляют игры и овладение языком), Джозеф только теперь, в одиннадцать лет, начал понемногу осваивать язык жестов и научился – пусть и очень ограниченно – общаться с другими. Это общение доставляло ему громадную радость. Он все время хотел находиться в школе: днем, ночью, в выходные и в праздники. Было тяжело видеть, как его уводили домой. Для Джозефа возвращение домой означало возвращение в безмолвие, в безнадежный вакуум общения, где он не может говорить, обмениваться впечатлениями ни с родителями, ни с соседями, ни с друзьями; для него это означало снова перестать быть личностью.
Все это было очень мучительно и не имело никаких параллелей в моем клиническом опыте. Я смутно помнил двухлетнего ребенка, который лепетал что-то нечленораздельное, но Джозефу было одиннадцать лет, и он выглядел на этот возраст. Поведение этого ребенка напомнило мне о бессловесных животных, но ни одно животное не тосковало по речи и языку. Я вспомнил, что когда-то Хьюлингс-Джексон сравнивал больных афазией с собаками – но собаки не стремятся овладеть языком, а больные афазией остро страдают от чувства его потери. Страдал и Джозеф: он мучительно чувствовал, что ему чего-то недостает, чувствовал свою ущербность. Глядя на Джозефа, я не мог не вспомнить диких детей, то есть детей, воспитанных зверями, хотя мне было ясно, что Джозеф не «дикий», он дитя цивилизации и наших обычаев, но отрезанный и от того, и от другого.
Джозеф, например, был не способен рассказать, как он провел выходные дни, – да, собственно, его было невозможно и спросить об этом даже на языке жестов: он не понимал самой идеи вопроса и еще меньше был способен сформулировать ответ. Мальчику не хватало не только языка, у него не было понимания прошлого, «вчерашнего дня», который бы отличался для него от «прошлого года». Его чувства были лишены автобиографического и исторического измерения; жизнь для него существовала только здесь и сейчас.
Его зрительный интеллект – способность решать визуальные головоломки и задачи – был достаточно высок в противоположность непреодолимым трудностям в решении вербальных задач. Он умел рисовать и любил это делать: мог очень точно начертить план комнаты, обожал рисовать людей, – угадывал, кто изображен на карикатурах, у него были свои визуальные понятия и концепции. Это внушало мне убеждение в том, что мальчик обладает приличным интеллектом, но этот интеллект ограничен миром его зрительного восприятия. Он понял смысл игры в крестики-нолики и вскоре достиг в ней больших успехов. У меня было такое впечатление, что его можно научить играть в шашки и шахматы.
Джозеф видел, различал, классифицировал, использовал: у него не было проблем с перцептивной классификацией или обобщением, но выйти за ее пределы он был не в состоянии. Он не мог удерживать в голове абстрактные идеи, не мог рассуждать, играть, планировать. Он был абсолютно буквален во всем – он не мог судить об образах, возможностях и гипотезах, для него не существовало воображаемой реальности и переносного смысла. И тем не менее чувствовалось, что он все же обладает интеллектом, несмотря на всю свою ограниченность. Нельзя было сказать, что у Джозефа не было ума, он просто не мог его эффективно использовать.
Ясно, что язык и мышление (в биологическом плане) имеют разное происхождение, что предки людей исследовали, размечали и осваивали окружающий мир задолго до возникновения языка, что существует огромный диапазон типов мышления – у животных, у детей, – которое существовало прежде языка. (Никто не исследовал этот вопрос более тщательно, чем Пиаже, но это и так известно любому родителю или любителю домашних животных.) Человеческое существо не становится безмозглым и умственно отсталым в отсутствие языка, но оно замыкается в рамках своего узкого мышления, в тесном маленьком мирке[38].
Для Джозефа это было началом общения, он стал овладевать языком, и этот процесс вызывал у него трепетное волнение. Учителя решили, что Джозефу нужны не просто формальные инструкции, но игра с языком, как младенцу, только начинающему говорить. Педагоги надеялись, что таким образом он начнет усваивать язык и концептуальное мышление, обретать эту способность в интеллектуальной игре. В связи с этим я вспомнил описанных А.Р. Лурией близнецов, которые казались умственно отсталыми, потому что не знали языка, и насколько улучшилось их состояние после того, как они им овладели[39]. Может быть, то же самое было возможно и с Джозефом?
Само слово «инфантильный» означает «неговорящий», и можно предположить, что овладение языком означает абсолютный и качественный скачок в развитии человеческой природы. Несмотря на то что Джозеф был хорошо развитым, активным и умным одиннадцатилетним ребенком, он в этом смысле оставался инфантильным, так как не обладал миром, который открывается человеку только с языком. Говоря словами Джозефа Черча:
«Язык открывает новые ориентиры и новые возможности для обучения и для действия, берет верх над доречевым опытом и преобразует его. Язык не просто одна из многих функций… это всепроникающая характеристика индивида, такая, что с ней он становится вербальным организмом (все переживания и действия которого ныне изменены в соответствии с вербализованным или символическим опытом).
Язык преобразует опыт… Посредством языка ребенка можно ввести в чисто символический мир прошлого и будущего, познакомить его с далекими странами, с идеальными отношениями, с гипотетическими событиями, с художественной литературой, с воображаемыми сущностями – от оборотня до пи-мезона[40]…
Ознакомительная версия.